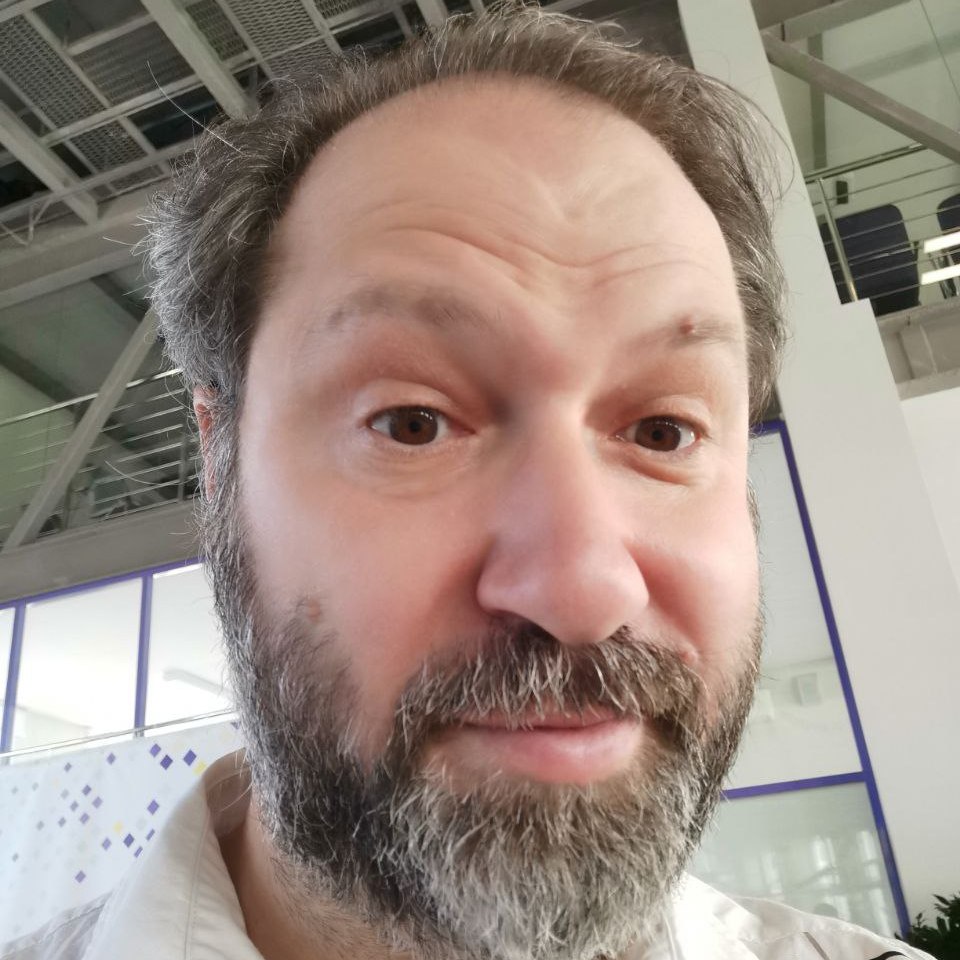

Обратимость меланхолии
Развитие дипфейк-технологий и нейросетевых инструментов уже в ближайшие годы позволит заменять актеров или добавлять новых персонажей в фильмы. Весь инструментарий, способный заменять лица, синтезировать речь и генерировать правильные движения, уже есть. Дело за автоматизированным ререндерингом, подстраивающим подмененного актера под запрос и привычки зрителя. Например, стриминговый сервис из истории запросов знает, что зритель увлекается балетом, и наделяет актеров балетными движениями. То, что ререндеринг будет внедрен — сомнений нет: слишком выгодна динамическая кастомизация фильма, подписка на премиум-каст скомпенсирует все расходы на разработку таких масок лица и движений. Эра римейков уйдет в прошлое, и через несколько лет кто-то будет смотреть «Кавказскую пленницу» с Киану Ривзом вместо Шурика, а кто-то предпочтет, чтобы в «Титанике» вместо Ди Каприо был Евгений Леонов.
Кинематограф, этот последний бастион аналоговой эпохи, падет под натиском алгоритмических машин, где актеры — всего лишь временные узлы в сетевом трафике. Когда медиа-археология будущего раскопает наши эпохи, она обнаружит не пленку и не цифровые диски, а бесконечные вариации одного и того же контента, мутировавшего в соответствии с запросами демиургов цифровой эры. Ведь что такое дипфейк, как не логическое завершение проекта кино, где тело актера всегда было лишь носителем информации, а теперь окончательно освобождается от биологических ограничений? Если классическое кино было записью света на серебряных кристаллах с помощью механического глаза, то теперь запись идет вне биологии, вне аналоговой технологии, вне тех материй, которые подчинили себе предшествующие кинематографу искусства.
Конечно, это спровоцирует юридические войны за права на цифровые образы актеров, подобные нынешним спорам вокруг CGI Кэрри Фишер в «Звездных войнах». Киностудии тоже будут завалены исками от актеров, отстраненных от съемок. Наконец, из миллионов кастомизированных версий некоторые станут культовыми, обрастут своими подражаниями и поклонниками. Это уже будет не массовая культура, а особая культура соучастия, вроде прежних фанатских культур, но с новыми возможностями корректировать себя прямо здесь и сейчас. Всё же, исполняя песни в стиле Элвиса Пресли или создавая фанфик, ты следуешь ожиданиям, и твои творческие муки никого не интересуют. Здесь же можно будет выставить творческие муки напоказ, сказать, что всё, время этой кастомизированной версии закончено, сделаем совсем другую, где Маяковский будет играть роль Высоцкого, а в процедурал войдут полноправными участниками анимационные миньоны, как они полноправно участвовали в трансляции Олимпийских игр — 2024 из Парижа.
Дипфейк доводит до логического завершения ту самую «волю к красоте», которую Зонтаг анализировала в контексте фотографии, но с чудовищным поворотом: если раньше образ хотя бы претендовал на документальность («это было»), теперь он открыто признаёт свою искусственность. Это уже не «меланхолия» запечатленного момента, а его полная обратимость — можно не просто запечатлеть время, но переписать его заново.
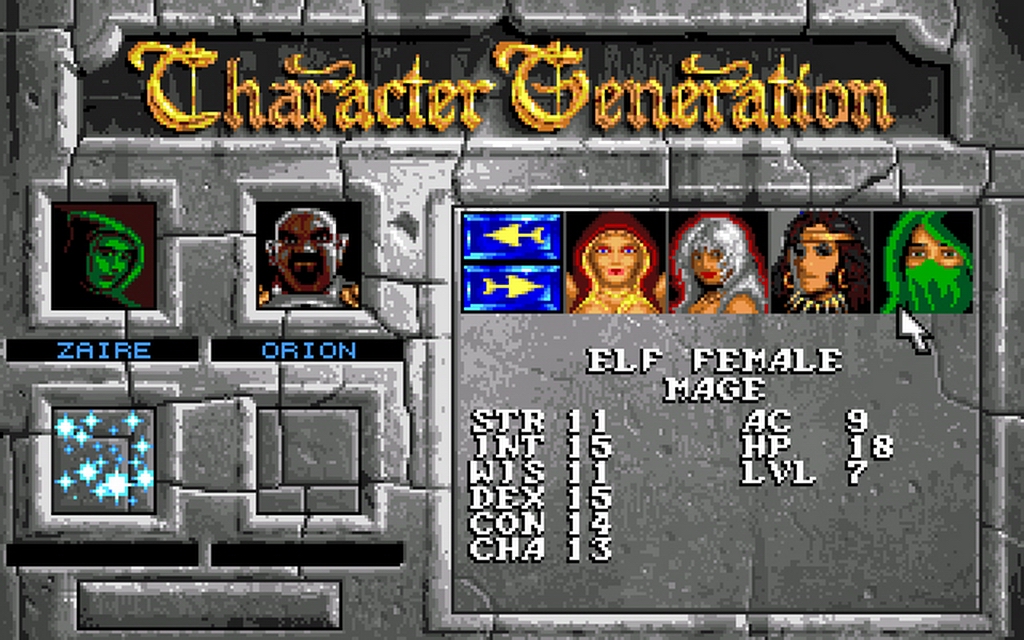
 Кино будущего окажется чем-то средним между видеоигрой, где каждый выбирает персонажей, и традиционным фильмом. Актеры, эти земные проводники человеческих страстей, станут сменными масками, а их голоса — набором тембров в библиотеке алгоритма. Но в этом цифровом карнавале, где любой образ можно натянуть на любую роль, как в детской игре «одень куклу», что останется от искусства кино, в котором случайное движение глаз, непреднамеренная пауза, едва уловимый жест слагаются в нечто большее, чем сумма технологий? Не получится ли, что мы уподобимся древним государям, которые приказывали стирать лица прежних властителей, чтобы оставить только свои — и в итоге получали не вечность, а лишь дыру отсутствующих лиц; так что в музее выставлены зияния, а не портреты?
Кино будущего окажется чем-то средним между видеоигрой, где каждый выбирает персонажей, и традиционным фильмом. Актеры, эти земные проводники человеческих страстей, станут сменными масками, а их голоса — набором тембров в библиотеке алгоритма. Но в этом цифровом карнавале, где любой образ можно натянуть на любую роль, как в детской игре «одень куклу», что останется от искусства кино, в котором случайное движение глаз, непреднамеренная пауза, едва уловимый жест слагаются в нечто большее, чем сумма технологий? Не получится ли, что мы уподобимся древним государям, которые приказывали стирать лица прежних властителей, чтобы оставить только свои — и в итоге получали не вечность, а лишь дыру отсутствующих лиц; так что в музее выставлены зияния, а не портреты?
Дыра референции
На самом деле профессия актера никуда не исчезнет, даже если банк актеров достаточен для подавляющего большинства подписчиков премиум-каста. Появится дипфейк-актер — это цифровой софист, «мастер на все руки» (можно вспомнить, как софист Гиппий не только сам себя обучил привлекательной пластике ритора, но и сам себе сшил костюм, чтобы сделать своими руками из себя иллюзию великого человека), способный принять любой облик и сыграть любую роль с убедительностью, которая заставляет усомниться в самой границе между «естественным» и «искусственным». Как древнегреческие софисты, владевшие искусством убеждения до такой степени, что могли «сделать слабейший довод сильнейшим», размывая различие между истиной и убеждением через неразрешимую двусмысленность речевого образа (например, «великий» — это про размер или про ценность?), так и виртуальные дипфейк-актеры будут превращать слабости пользователей, например любовь к ясному взгляду, в силу искусства. Раньше этим занимались обычные живописцы, учитывавшие запросы заказчиков, — салонная живопись уже включала в себя дипфейк-актерство, но ограниченное плоскостью картины.
Монадология Лейбница предлагает куда более радикальную перспективу дипфейк-актерства. Ведь каждая такая цифровая сущность — это своего рода «монада», замкнутая в себе и одновременно отражающая весь мир. Как утверждал Лейбниц, монады «не имеют окон», но при этом каждая «воспроизводит весь универсум» — и разве не так работает дипфейк-актер, который, будучи исполняемым алгоритмом, способен воспроизводить бесконечное множество ролей, жестов, интонаций? Он существует не как «тело», а как «возможность», как чистая «точка зрения» на кинематографическую реальность. И именно поэтому вдруг обычные алгоритмы начинают выглядеть в глазах зрителей чем-то вечным, бесконечным и неисчерпаемым.
Подобно монадам, дипфейк-актеры «не влияют друг на друга прямо» — их взаимодействие всегда опосредовано «предустановленной гармонией» алгоритмов самообучаемой нейросети, которые заранее определяют, как они будут сочетаться в кадре. В христианской антропологии, например у Хри́стоса Яннараса, актер есть живое свидетельство тварной ипостасности — уникального, неповторимого бытия-в-образе. Он икона, хотя и не литургическая в полном смысле, потому что не существует актеров, пользующихся всеобщей любовью (она как раз — софистическая иллюзия общности мнения всех знакомых), но литургическая в смысле жертвенности — актер готов пожертвовать всем, чтобы создать нужный в этом спектакле или в этом фильме образ. Возможно, дипфейк-актер станет мостом между литургической жертвенностью и литургической всеобщностью: как софист он создает всеобщее мнение, а как монада — воспроизводит всецелый мир своим всецелым участием.
Дипфейк-актер — это апория референции, воплощенная в цифровой плоти, где риторическая структура «как если бы» обнажает свою собственную невозможность. Отсылка (референция) — это всегда сопоставление со стандартом, но стандарт мы знаем благодаря отсылкам, и в этом смысле он всегда уходит от нас, ускользает. Если Лейбниц пытался спасти референцию через предустановленную гармонию, то алгоритмический актер показывает, что любая гармония — лишь временный эффект кода. Как софисты для Платона, дипфейк-актер становится, пользуясь термином Жака. Деррида, фармаконом современной культуры — и ядом, и лекарством, разоблачая иллюзию подлинности, на которой держалось искусство эпохи механического воспроизводства.
Дипфейк-актер оказывается на пересечении двух традиций: софистической, где «искусность» важнее «истины», и лейбницевской, где каждая сущность — это «зеркало вселенной». Он одновременно «обманщик», способный выдать себя за кого угодно, и «монада», чье бытие сводится к чистому отражению. И если софисты учили, что реальность можно пересоздавать словами, а Лейбниц видел мир как совокупность «перспектив», то дипфейк-кинематограф реализует обе эти идеи буквально: здесь каждый кадр — это «договоренность» между зрителем и алгоритмом, а каждый актер — не человек, но «видение», которое можно настроить, как настраивают объектив камеры. В таком мире кино перестает быть «записью» и становится «интерфейсом», а актер — не «личностью», но «функцией», вечным колебанием между «кем-то» и «чем-то». Так в какой момент это колебание остановится — и в актерском деле возникнет киберлитургичность?
Одиссей как протокол смены идентичностей
В шестой песни «Одиссеи» (225–235) богиня превращает тело Одиссея в риторический аргумент, в убедительную видимость.
«ἅλμην, ἥ οἱ νῶτα καὶ εὐρέας ἄμπεχεν ὤμους…»
(«Смыла грязь, что покрывала плечи и спину…»)
Это не просто омовение — это алгоритмическая обработка образа. Афина действует как первый в истории motion capture-художник: она стирает следы реального (соль, пену, усталость — «ἁλὸς χνόον ἀτρυγέτοιο») и накладывает цифровой слой харис — той самой «прелести» (χάρις, в переводе В. В. Вересаева «Прелестью так и Афина всего Одиссея покрыла»), которая у греков была не просто красотой, но убеждающей силой видимого.
«μείζονά τ᾽ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα…»
(«Сделала его выше и полнее на вид…»)
Здесь — ключ ко всей сцене: Афина не меняет Одиссея, она рендерит его заново, как нейросеть, достраивающая лицо по запросу «идеальный герой». Его кудри — уже не волосы, а «ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίας» («гиацинтовые цветы»), то есть чистая метафора, текстура, наложенная на 3D-модель.
Но главное в этом отрывке — сравнение с ювелиром («χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ»), где Одиссей — исходник, а Афина — мастер «τέχνην παντοίην» («всякого искусства»). Это протодипфейк: она не скрывает, что создает иллюзию, но делает ее убедительнее реальности.
«κάλλεϊ καὶ χάρισι στίλβων…»
(«Сверкая красотой и прелестью…»)
Перед Навсикаей уже не человек, а интерфейс — Одиссей 2.0, где χάρις — это UX-дизайн, заставляющий поверить в «божественное» происхождение образа.

Но еще сильнее сцена в шестнадцатой песне (166–219), где происходит узнавание-неузнавание Телемахом своего отца. Афину в виде, заметим, не богини, а просто «καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα ἰδυίῃ» — прекрасной, большой и для блистательных дел годной (то есть все признаки богини есть, но на месте референта богиня зияние) — видит Одиссей, но не Телемах: здесь зияние референции становится сугубым. Это принципиально для того, чтобы встреча Телемаха с отцом состоялась: он не должен принять отца как нищего, лишенного блеска, но не может принять его и как бога, потому что сам Одиссей себя богом не считает. Афина здесь — не просто богиня, а мастер софистической иллюзии, создающий перформативный парадокс: Одиссей одновременно «тот самый» и «совсем другой».
«ἄλλα δὲ εἵματ᾽ ἔχεις, καί τοι χρὼς οὐκέθ᾽ ὁμοῖος»
(«Другая одежда на тебе, и кожа уже не та же»)
Телемах сталкивается не с отцом, а с семантическим разрывом: перед ним образ, который нарушает закон тождества.
Громко ему Телемах слова окрыленные молвил:
«Странник, совсем ты иной, чем какого я только что видел!
В платье другое одет, и кожей нисколько не сходен.
Бог ты, конечно, — из тех, что небом владеют широким!
Смилуйся! Жертву тебе принесем мы приятную, также
Тонкой работы дары золотые. А ты пощади нас!» (пер. В. В. Вересаева)
Это не «переодевание», а полноценный рендеринг нового аватара — Афина меняет не только одежду, но саму фюсис (φύσις) Одиссея:
Прежде всего ему плечи покрыла плащом и хитоном,
Вымытым чисто. Повысила рост и уменьшила возраст
Афина производит рендеринг текстуры («φᾶρος μέν οἱ πρῶτον ἐϋπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα / θῆκ᾽ ἀμφὶ στήθεσσι», кладет хитон по обоим плечам — она не просто «одевает», а накладывает слой, как нейросеть, генерирующая одежду на 3D-модель) и морфинг возраста — «δέμας δ᾽ ὤφελλε καὶ ἥβην» — аугментация тела, сравнимая с современным цифровым омоложением фотографии. Реакция Телемаха ожидаема:
«οὐ σύ γ᾽ Ὀδυσσεύς ἐσσι, πατὴρ ἐμός, ἀλλά με δαίμων θέλγει»
(«Ты не Одиссей, не отец мой, но какой-то демон [божество] меня обманывает»)
Телемах отказывается верить глазам, потому что видимость (φαίνεσθαι) больше не гарантирует истину (ἀλήθεια), здесь софистика проявляется в чистом виде. Он знает, что боги могут «сделать смертного молодым или старым, как захотят» («ῥηϊδίως ἐθέλων θείη νέον ἠὲ γέροντα»), но это знание разъедает саму возможность узнавания. Парадокс референции работает на полное неузнавание. Когда Одиссей наконец раскрывает себя («αὐτάρ τοι τόδε ἔργον Ἀθηναίης ἀγελείης» — «это дело Афины-добычницы»), он описывает метаморфозу как серию дискретных состояний:
«ἄλλοτε μὲν πτωχῷ ἐναλίγκιον, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε ἀνδρὶ νέῳ»
(«То похожим на нищего, то снова на молодого мужа»).
Это чисто монадическое существование: Одиссей не «меняется», а переключается между предустановленными гармониями, как лейбницевская монада, чьи перспективы обновляются без внешнего вмешательства. Одиссей признаёт: его «я» — это функция божественной воли («ὅπως ἐθέλει, δύναται γὰρ»), а не непрерывное «я». Именно в этот момент фрагментирования и тела, и божественной воли он только и может быть принят Телемахом не просто как монада, а как родной и любимый индивид. Это первое, еще доступное только двум людям предвестие киберлитургичности.
Заметим в духе Барбары Кассен иронию: Одиссей, πολυμήχανος («многохитрый», изобретательный механик), сам становится жертвой метис (μήτις, внутреннего разума или хитрости) богини — будто Гомер предвидел эпоху, когда даже «хитрость» будет алгоритмизирована. Аналоговая механика Одиссея сменяется цифровой механикой Афины. Дипфейк-актер уже существует на Итаке.
Александр Марков, профессор РГГУ
Оксана Штайн, доцент УрФУ
