
Имя американской ученой Веры Рубин (Vera C. Rubin, 1928–2016) сейчас на слуху. Хотя бы потому, что в 2025 году начала работать, а буквально на днях, 23 июня, выдавать данные («первый свет» на профессиональном жаргоне) обсерватория в Чили, названная в ее честь. Там функционирует один из крупнейших в мире наземных телескопов с самой мощной цифровой камерой в истории (3,2 гигапикселя). Подробно об установке и ее первых результатах мы писали в предыдущем выпуске (ТрВ-Наука № 4321). А кто расскажет о самой Вере Рубин? Конечно, историк науки Алексей Левин, тем более, что ему довелось лично с ней общаться. Вера Рубин стала одним из 18 героев его книги «Астрофизика в лицах», вышедшей в 2022 году в издательстве URSS. С любезного разрешения автора мы публикуем главу, посвященную Вере Рубин, в сокращенном варианте.
Первым к выводу о том, что в межзвездном пространстве скрывается гравитирующее несветящееся вещество неустановленной природы, пришел американский астрофизик швейцарского происхождения Фриц Цвикки. Именно он и назвал эту гипотетическую компоненту Большого Космоса «темной материей». Но вплоть до 1970-х годов ее существование было лишь красивым предположением, почти не подтвержденным опытными данными. Потом времена изменились, и чисто теоретический конструкт Цвикки начал укрепляться растущим массивом астрономических и астрофизических данных. Первую скрипку в этой великолепной симфонии сыграла замечательный астрофизик Вера Рубин, с которой я имел честь общаться. Что особенно примечательно, свое крупнейшее открытие она сделала, уже приближаясь к 50-летию, причем до этого не приобрела особого профессионального авторитета.
Девочка из Пенсильвании
Продолжательница дела Цвикки родилась в Филадельфии 23 июля 1928 года. Она была последним из четырех детей инженера-электрика корпорации Bell Telephone Филипа Купера и его жены Розы. (Оба, кстати, еврейские эмигранты из Российской империи. — Прим. ред.). Семья Куперов переехала в Вашингтон, когда Вере было десять лет.
Астрономией Вера заинтересовалась в детстве, наблюдая звезды в окошко своей спальни. Отец помог ей сделать примитивный телескоп с трубой из линолеума — фактически подзорную трубу с небольшим увеличением и плохой разрешающей способностью. Поскольку вашингтонское небо уже тогда было изрядно подпорчено уличным освещением, девочка ездила на автобусе в пригороды и оттуда рассматривала планеты и звезды.
С 12 лет Вера стала самостоятельно рыться в библиотеке в поисках литературы о небесных телах и явлениях, прочла и поняла популярные книги таких классиков, как Джеймс Джинс и Артур Эддингтон. К окончанию школы она твердо решила идти в астрономы. Любопытно, что учитель, который наставлял ее класс в естественнонаучных дисциплинах, убеждал девочку, что научная карьера не отвечает ее способностям и призванию.

Получив аттестат в 17 лет, Вера Купер поступила в колледж Вассар в штате Нью-Йорк, один из старейших центров высшего женского образования в США. Он был основан в 1861 году и вскоре завел кафедру астрономии и собственную обсерваторию. Первым профессором (с 1865 по 1888 годы) там была Мария Митчелл, которая ранее, работая библиотекарем в Нантукете в штате Массачусетс, открыла комету, названную ее именем (сейчас каталогизирована под индексом С/1847 Т1). Она пользовалась международной известностью, дважды побывала в Европе (во время второго путешествия в 1873 году гостила в Пулкове) и была очень хорошим, хотя и нетрадиционным, педагогом. Митчелл получила в свое распоряжение телескоп с 31-сантиметровой апертурой и фотокамерой. С помощью этих приборов она фотографировала солнечные пятна, вела наблюдения двойных звезд и туманностей. Благодаря ее усилиям и престижу число студенток, которые в Вассаре при ее жизни изучали математику и астрономию, превзошло количество студентов Гарвардского колледжа, которые в те же годы слушали лекции по этим предметам. 25 ее учениц со временем нашли место в справочниках Who’s Who in America. Остается добавить, что ее именем назван один из лунных кратеров.
Вера с детства восхищалась Марией Митчелл и пошла в Вассар именно потому, что хотела продолжить ее путь в науке. Вообще-то выбор был неудачен, поскольку настоящей астрономией там уже не пахло. Проучившись в Вассаре три года и получив в 1948 году диплом, Вера решила продолжить образование. Как раз тогда она познакомилась с Робертом Рубином, который учился в аспирантуре Корнеллского университета на отделении физической химии. Любовь была мгновенной, и вскоре они поженились. Чтобы не расставаться с мужем, она поступила в магистратуру Корнелла, отказавшись от предложения Гарвардского университета. С профессиональной точки зрения это был второй сомнительный выбор. Тогдашний Корнелл предлагал магистрантам очень скромную программу по астрономии, которую вели всего два преподавателя. Правда, на физическом факультете там работали такие гиганты, как Ричард Фейнман и Ганс Бете, а также ученик Роберта Оппенгеймера и участник Манхэттенского проекта Филип Моррисон, который как раз тогда занялся астрофизикой. Вера Рубин немало почерпнула из их лекций и семинаров, однако основное внимание сосредоточила на классической галактической астрономии. В этом ей помогла профессор Марта Старр Карпентер, которая читала курс динамики галактик.
Вера Рубин в 1951 году получила степень магистра искусств после защиты диссертации, в которой описала и проанализировала собранные в астрономической литературе данные о движении 108 галактик, расположенных в относительной близости от Млечного Пути. Еще во время учения в Корнелле, в 1950 году, у них с Робертом родился первый сын.
История с диссертацией Веры Рубин заслуживает отдельного рассказа. В своем анализе она выделила две разновидности галактических движений. Одна из них — это хорошо известное к тому времени космологическое разбегание галактик, которое описывается знаменитым законом Хаббла и служит видимым проявлением расширения Вселенной. В то же время Вера пришла к выводу, что галактики участвуют и в коллективном движении кругового типа, которое приводит к тому, что одни из них удаляются от Млечного Пути, а другие к нему приближаются. Она предположила, что этот тренд тоже имеет космологическую природу, и неосторожно назвала свою первую статью «Rotation of the Universe».
И за это была быстро наказана. Астрономы середины прошлого века и так слабо верили в существование галактических мегаструктур со своей собственной динамикой, и уж тем более не были готовы принять столь еретическую идею от 22-летней выпускницы заштатного астрономического отделения. Она смогла доложить свою работу в 10-минутном выступлении на заседании Американского астрономического общества, но реакция аудиенции (за исключением Мартина Шварцшильда) была крайне негативной. Правда, редактор Astronomical Journal Дирк Брауэр всё же опубликовал очень короткую заметку с выжимкой из ее результатов, но только под вполне нейтральным названием «Differential Rotation of the Inner Metagalaxy». Саму же диссертацию напечатать так и не удалось — ее отвергли и Astronomical Journal, и Astrophysical Journal.
Однако Провидение со временем вознаградило Веру Рубин за смелость. Рукой судьбы стал переехавший в США из Франции крупный специалист по внегалактической астрономии Жерар Анри де Вокулёр. К концу 1950-х годов он собрал убедительные аргументы в пользу своей гипотезы, высказанной несколькими годами ранее, согласно которой Местная группа галактик, которая включает Млечный Путь, принадлежит гигантской галактической ассоциации, связанной силами тяготения. Сначала де Вокулёр именовал ее Местной Сверхгалактикой, но в 1958 году назвал Местным Сверхскоплением (другое название — Сверхскопление Девы). Это сплющенный вращающийся эллипсоид поперечником около 110 млн световых лет, включающий порядка сотни галактических скоплений меньшего ранга, а его полная масса составляет 1015 масс Солнца. После основополагающих работ де Вокулёра стало ясно, что Вера Рубин фактически обнаружила экваториальную плоскость этого сверхскопления, которая, разумеется, участвует в его вращении. Хотя ее первая работа и содержала ряд неточностей, в ретроспективе она выглядит как замечательное свидетельство оригинальности научного мышления автора.
В той же ретроспективе название этой работы глубоко символично. Прелюдией к выходу Веры Рубин на темную материю стали ее наблюдения всё того же «дифференциального вращения», только не звездных ассоциаций, а индивидуальных спиральных галактик. Однако до того, как это случилось, прошло свыше 20 лет.
Медленное восхождение
После окончания аспирантуры Роберт Рубин получил место в лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Она была создана в 1942 году для работы над военными проектами под эгидой Пентагона и в этом качестве действует и поныне, выполняя также контракты NASA и других ведомств. Сейчас это огромная организация со штаб-квартирой в Лореле в штате Мэриленд, а до 1954 года она размещалась в переделанном гаражном здании в вашингтонском пригороде Силвер Спринг всего в нескольких милях от Белого дома. Неподалеку поселились и супруги Рубин с маленьким сыном. Позже у них родились еще трое детей, причем все со временем защитили докторские диссертации по естественным наукам или математике (Дэвид, первенец, стал геологом, а единственная девочка в семье Джудит пошла по стопам матери в астрономию).
После возвращения в Вашингтон Вера оказалась без постоянной должности, но смогла найти временную работу в Военно-морской лаборатории. А потом и ей помог случай, причем дважды. Она поступила в аспирантуру Джорджтаунского университета, единственное место в Большом Вашингтоне, где тогда можно было подготовить докторскую диссертацию по астрономии. Во главе аспирантской программы стоял директор университетской обсерватории иезуит Фрэнсис Хейден, который в основном занимался солнечной спектроскопией в духе XIX века и не был экспертом по части новейшей астрономии и астрофизики. Однако он регулярно привлекал к чтению лекций сотрудников других вашингтонских научных центров. Среди них встречались крупные специалисты, у которых Вере Рубин было чему поучиться. Например, там преподавал Джон Хаген, руководитель радиофизической группы Военно-морской лаборатории, которая в 1950 году создала лучший в мире (конечно, на то время) радиотелескоп. С программой Хейдена также сотрудничал Георгий Гамов, профессор Университета Джорджа Вашингтона, один из создателей горячей модели рождения Вселенной. Хейден оценил способности Веры и рекомендовал ее Гамову. И это была не единственная рекомендация. Роберт Рубин работал в лаборатории прикладной физики по соседству с Ральфом Алфером, бывшим аспирантом Гамова в Университете Джорджа Вашингтона и соавтором теории Большого взрыва. Хотя Алфер тогда уже не занимался космологией, он сохранил контакты с бывшим шефом и познакомил его с Верой. Так и получилось, что Гамов заинтересовался молодой выпускницей Корнелла и предложил ей готовить докторскую под его руководством. В 1954 году Вера Рубин успешно защитилась в Джорджтауне.
В каком-то смысле вторая диссертация Веры Рубин «Fluctuations in the Space Distribution of the Galaxies» повторила судьбу первой. Она была опубликована в престижном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, куда ее представил лично Гамов. В качестве исходного материала Вера опять использовала имевшиеся в литературе данные о галактиках (конкретно, сотни снимков, опубликованных Гарвардской обсерваторией). Сама она в аспирантские годы не вела телескопических наблюденияй, поскольку обсерватория Джорджтауна могла предложить лишь старый 12-дюймовый рефрактор. Этот материал она обработала на основе оригинальной формулы для оценки флуктуаций плотности галактического «газа». Результат позволил с разумной вероятностью предположить, что галактики не распределены в пространстве случайным образом, а проявляют тенденцию стягиваться в «комки». Конечно, в этом не было открытия (о скоплениях галактик еще в 1938 году писал Фриц Цвикки). Однако астрономы стали всерьез изучать галактические кластеры только в последней трети XX века, так что и здесь аспирантка Гамова опередила свое время.
После защиты докторской Вера на десять лет осталась в Джорджтауне. Сначала она была астрономом-исследователем, в 1960 года была повышена до лектора, а еще через два года стала ассистент-профессором. Для подработки (в семье уже было четверо детей) она преподавала в двухгодичном колледже графства Монтгомери. Карьерный прогресс был медленным, научная известность не приходила, но женщине-астроному даже с докторской степенью тогда было трудно ожидать большего. Лев Николаевич Толстой писал в «Войне и мире», что Николай Ростов глухо служил в дальнем полку — а Вера всё же оставалась в столице. Как известно, за неимением гербовой бумаги пишут на простой.
В 1971 году Джорджтаунский университет упразднил астрономическое отделение и закрыл обсерваторию (сейчас ее здание пребывает в запустении и фактически разваливается). Неизвестно, как сложилась бы научная судьба Веры Рубин, если бы она всё еще работала там. К счастью, ее «глухой службе» пришел конец — в 1965 году ей посчастливилось получить место в замечательном научном центре, департаменте земного магнетизма Института Карнеги. Он был учрежден в 1904 году по инициативе американского геофизика и астронома Луиса Бауэра, который выдвинул программу полной геомагнитной съемки земной поверхности. Со временем там стали осуществляться и другие научные программы, включая астрономию и астрофизику. В частности, появилась знаменитая калифорнийская Обсерватория Маунт-Вилсон, в значительной мере созданная на деньги американского стального короля Эндрю Карнеги.

Вера Рубин в начале 1960-х поняла, что для серьезных самостоятельных исследований ей надо освоить практические методы астрономических и астрофизических наблюдений. В 1963 году, еще в Джорджтауне, она стала сотрудничать с супругами Бербидж, которые имели доступ к 82-дюймовому телескопу техасской Обсерватории Макдоналда (сейчас он носит имя Отто Струве). С его помощью она вернулась к изучению вращения галактик — теперь уже на основе собственных данных. Придя в Институт Карнеги, она стала первой женщиной, получившей «окна» (увы, весьма узкие) для наблюдений на пятиметровом рефлекторе Паломарской обсерватории, тогда всё еще крупнейшем оптическом телескопе в мире. Постепенно она обрела навыки работы с новейшей астроспектрографической аппаратурой.
И здесь в ее пользу сработал человеческий фактор. В Департаменте земного магнетизма с 1955 года работал астроном Кент Форд, который в течение многих лет занимался разработкой электронно-оптических приборов на фотоумножителях. Лет через десять он изобрел чрезвычайно чувствительный спектрограф, который тогда называли карнегиевским кинескопом (Carnegie Image Tube). При установке на крупные телескопы прибор позволял фотографировать спектры крайне тусклых объектов, ранее практически недоступных для наблюдений. Проверяя его потенциал в реальных наблюдениях, Рубин и Форд несколько раз ездили в обсерватории Китт-Пик и Лоуэлла в штате Аризона и получали отличные снимки спектров квазаров.
Однако вскоре Вера поняла, что это была не та астрономия, которой ей хотелось заниматься. Новооткрытые квазары были очень горячей темой, и их изучали десятки ученых с именем, имевших куда лучший доступ к мощным телескопам. Она решила выбрать немодную исследовательскую тему, которую они с Фордом могли бы спокойно разрабатывать, ни с кем не соревнуясь в гонке за лидерство. Это решение в конечном счете привело их к подтверждению гипотезы Цвикки о существовании темной материи.
Ее выбор конкретного объекта исследования оказался фантастически удачным, хотя поначалу она этого, конечно, не знала. Вера вспомнила свою старую работу о дифференциальном вращении и захотела изучить этот феномен с помощью спектрометра Форда — только не на галактиках, как раньше, а на внутригалактическом веществе. Для начала она решила изучить всем известную Андромеду, она же туманность М31 по каталогу Мессье, которая в 1920-е годы так помогла Эдвину Хабблу в изучении Вселенной.
Выбор именно М31 был вполне естественным, поскольку это ближайшая к Земле гигантская галактика с четко оформленной спиральной структурой. Возможно, помогла беседа Веры с Мортоном Робертсом, сотрудником и будущим директором Национальной радиоастрономической обсерватории. В 1966 году он специально приезжал к ней в департамент земного магнетизма, чтобы обсудить парадоксальный результат измерения скоростей скоплений нейтрального водорода, которые, подобно звездам, обращаются вокруг центра Андромеды под воздействием силы тяготения. Робертс показал ей данные, полученные при измерении радиоизлучения атомов водорода на длине волны 21 см. Оно возникает, когда единственный электрон атома водорода переходит из состояния, в котором его спин параллелен спину ядра, в состояние, в котором эти спины антипараллельны. Поэтому такое излучение служит характерной спектральной подписью нейтрального водорода. Робертс рассказал, что измеренные скорости водородных облаков почти не уменьшаются по мере удаления от ядра Андромеды, чего следовало бы ожидать на основе третьего закона Кеплера. О его визите через много лет вспоминала Сандра Фабер, тогдашняя аспирантка Гарварда, в будущем известный специалист по внегалактической астрономии, которой Вера Рубин помогала в работе над диссертацией. Не исключаю, что полученные от Робертса сведения усилили интерес Веры к изучению дифференциальных вращений газового наполнения туманности Андромеды. Впрочем, это только моя гипотеза.
Как бы то ни было, Рубин и Форд в 1966 году решили заняться этой туманностью. Его спектрограф позволял с невозможной ранее точностью измерять радиальные скорости скоплений водорода, ионизированного светом горячих звезд, принадлежащих этой галактике. Скорости предстояло определять стандартным способом — по сдвигам спектральных линий излучения водородных атомов (в основном это были кванты серии Бальмера), обусловленных эффектом Доплера. Подготовка к проведению измерений заняла много времени, так что первую спектрограмму партнеры получили лишь в самом конце 1967 года. Потом в 1968 и 1969 годах они многократно повторяли свои измерения на 84-дюймовом телескопе Обсерватории Китт-Пик и на 72-дюймовом телескопе Обсерватории Лоуэлла. Это была тяжелая и даже изматывающая работа холодными аризонскими ночами в куполах телескопов, расположенных на приличной высоте над уровнем моря. Для каждого сеанса приходилось заново монтировать тяжелый спектрограф на трубе телескопа, а потом его снимать, чтобы уступить место другим астрономам. Так что реализация проекта потребовала и упорства, и выносливости.
В декабре 1968 года Вера Рубин доложила предварительные результаты спектрографирования туманности Андромеды на сессии Американского астрономического общества в Остине. Среди слушателей был известный астроном (точнее, физик, ставший астрономом) Рудольф Минковский. Он настоятельно посоветовал Вере не тянуть с публикацией. В июле 1969 года партнеры отправили в печать свое первое сообщение, опубликованное в следующем феврале2. Им удалось измерить радиальные скорости 67 скоплений ионизированного водорода на расстояниях от 3 до 24 кпк от центра Андромеды с точностью порядка 10 м/с. Это был несомненный успех их совместного проекта.
Однако, как уже говорилось, в их спектрограммах была некая изюминка. Они обнаружили у Андромеды плотное быстро вращающееся ядро, о котором было давно известно из оптических наблюдений. Когда дистанция до центра галактики дошла до двух килопарсек, линейные скорости газовых сгустков сильно упали. Это свидетельствовало об уменьшении плотности вещества при удалении от ядра, что было вполне ожидаемо. Однако на расстояниях от 4 до 14 кпк от центра скорости газа почти не уменьшались, как ранее заметил и Робертс. Отсюда следовало, что масса Андромеды вплоть до этого порога растет приблизительно пропорционально радиусу. На далекой периферии, до 24 кпк от центра, этот рост замедлялся, но всё же не прекращался. В общем, дело выглядело так, что внутреннее пространство Андромеды заполнено веществом, которое вносит большой вклад в ее поле тяготения. В этом плане Андромеда радикально отличается от Солнечной системы, чья масса почти полностью сосредоточена в центре.
Соавторы воздержались от выдвижения каких-либо радикальных гипотез по этому поводу, но их удивление прочитывается даже за сухим текстом статьи. Спустя много лет Вера Рубин призналась, что сначала совершенно не могла понять причины выявленного тренда. Для собственного потребления она даже придумала пару экстравагантных объяснений, которые, конечно, в статье не обсуждала.
В принципе, Рубин и Форд не должны были чрезмерно удивляться полученным данным. Макс Вулф и независимо от него Весто Слайфер с помощью спектроскопических измерений обнаружили вращение Андромеды еще в 1914 году — задолго до того, как Хаббл доказал, что ее следует считать отдельной галактикой. Через три года Фрэнсис Пиз из Обсерватории Маунт-Вилсон заметил, что близкие к центру области Андромеды вращаются приблизительно с одинаковыми скоростями. В 1939 году американский астроном Хорес Бэбкок не обнаружил кеплеровского уменьшения скоростей даже на ее периферии и даже вполне правильно объяснил этот результат накоплением несветящегося вещества у ее внешней границы. Через 12 лет аналогичные результаты опубликовал его соотечественник Николас Мэйол. Рубин и Форд знали их работы и сослались на них. Однако заключения Бэбкока и Мэйола не отличались большой точностью, допускали различные интерпретации и не вызвали особого интереса в астрономическом сообществе.
В 1971 году Рубин и Форд напечатали второе сообщение о вращении Андромеды, подкрепившее их первые выводы. Через четыре года Мортон Робертс и Роберт Уайтхёрст опубликовали данные о движении атомарного водорода на периферии южной зоны этой галактики, полученные с помощью ее мониторинга на 300-футовом радиотелескопе обсерватории Грин-Бэнк всё на той же классической длине волны 21 см. Эти данные вполне согласовывались с результатами их коллег из департамента земного магнетизма.
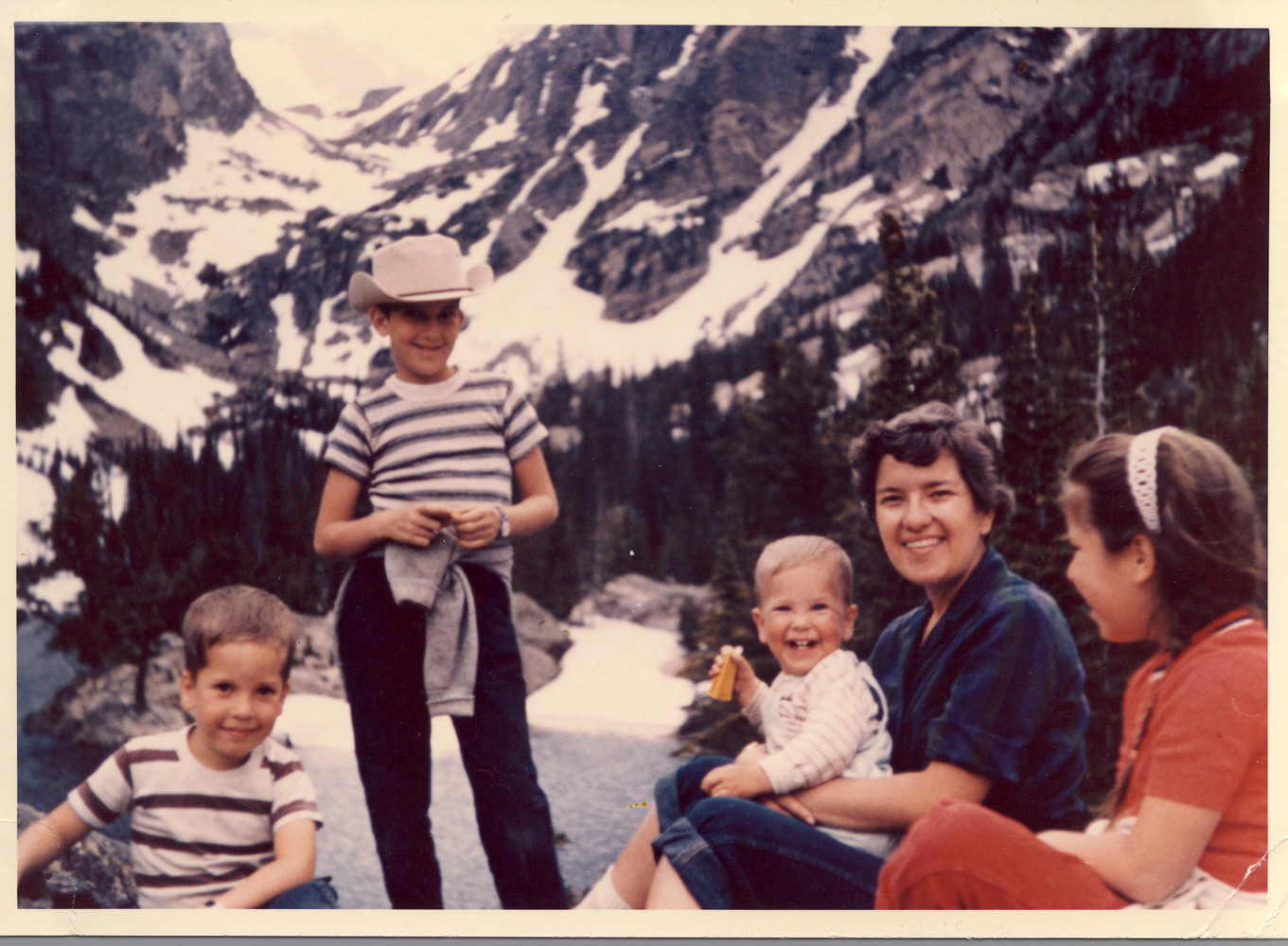
Возвращение темной материи
Вера Рубин рассказывала мне, что они с Фордом в принципе знали о гипотезе темной материи, но, приступая к исследованиям, о ней не думали и вовсе не планировали ее проверять. Поэтому термин «темная материя» в их первой публикации вообще отсутствует. А первое четкое упоминание возможной связи между парадоксальным распределением скоростей вещества спиральных галактик и наличием там скрытой массы появилось в статье молодого австралийского астронома и астрофизика Кеннета Фримена, напечатанной всего лишь через четыре месяца после статьи Рубин и Форда3. Эта замечательная работа очень богата содержанием, но для нас представляет интерес только ее небольшая часть. Фримен обнаружил некеплеровское распределение скоростей при изучении собранных другими астрономами данных о двух спиральных галактиках, М 33 и NGC 300. Обсудив эту ситуацию с Робертсом, он отметил в своей статье (стр. 828), что если имеющиеся в литературе данные верны, то в этих галактиках должна присутствовать дополнительная материя, которая не детектируется ни с помощью оптических наблюдений, ни посредством радиоастрономического мониторинга на волне 21 см. Ее полная масса, подчеркнул Фримен, как минимум не уступает массе наблюдаемых компонент, а ее пространственное распределение должно сильно отличаться от распределения вещества, которое выявляется при оптических наблюдениях. Правда, Фримен тоже не ссылался на Цвикки и не использовал выражение «темная материя», но по сути он писал именно о ней и о ее необычных свойствах. Сейчас мы знаем, что темная материя может составлять львиную долю массы галактик и что она концентрируется не в их центральных областях, а в галактических гало.
Вскоре измерениями дифференциального вращения галактик занялись другие ученые, которые раз за разом подтверждали постоянство скоростей вращения галактического вещества на большом удалении от центра на всё более обширном эмпирическом материале. Например, радиоастроном из Нидерландов Альберт Босма в 1978 году обнародовал данные о некеплеровском вращении 25 спиральных галактик с различной морфологией.
Надо отметить, что некеплеровский характер вращения был признан отнюдь не сразу. Например, в 1973 году группа кембриджских радиоастрономов опубликовала свои собственные данные о дифференциальном вращении туманности Андромеды, которые вполне соответствовали кеплеровской модели. Здесь нет ничего удивительного. Признание новых научных данных, которые противоречат устоявшимся взглядам, требует немалого времени.
Через несколько лет к вращению галактик вернулись и Вера Рубин с Кентом Фордом. В середине 1970-х они вместе с партнерами занимались движениями нашей галактики и Местной группы в космическом пространстве. Однако в 1978 и 1980 годах они в соавторстве с Норбертом Тоннардом опубликовали две статьи, которые вновь были посвящены ротационным свойствам галактик. Эти наблюдения Вера Рубин и ее партнеры продолжали и в течение 1980-х и 1990-х годов. В это время она дополнительно изучила спектры более чем 200 галактик и обнаружила, что почти все содержат большие количества темной материи.
Важно, что ожидаемые и реальные скорости вращения вещества галактик различаются не на проценты, а в разы. Например, типичные скорости движения периферийных звезд и газа, вычисленные в предположении центральной концентрации галактических масс, для крупной спиральной галактики составляют 30–40 км/с, в то время как реальные скорости могут лежать в интервале 150–200 км/с. Разница весьма серьезная.
После основополагающих работ Рубин с Фордом и Кеннета Фримена в работу включились теоретики. Так, в 1973 году Джеремайя Острайкер и нобелевский лауреат по физике 2019 года Филип Джеймс Эдвин Пиблс показали, что плоские спиральные галактики, в том числе и наш Млечный Путь, сами по себе обязаны деформироваться и разрушаться. В то же время из их расчетов следовало, что такая галактика становится стабильной, если ее погрузить в сферическое облако массивной материи много большего размера, чем ее видимый диаметр. Такое облако удерживает своим тяготением в равновесии звезды и галактический газ и не дает галактике рассыпаться.
К середине 1980-х годов почти все астрономы поверили, что галактики окружены мощными гало из невидимой материи. Сначала это было доказано для спиральных галактик и плоских галактик без спиральной структуры, а затем и для большинства галактик с эллиптической морфологией. Также астрономы выяснили, что доля темной материи в общей массе галактики может доходить до 90%. Более того, с течением времени справедливость этих выводов была продемонстрирована и для галактик, удаленных от Млечного Пути на космологические дистанции. Вряд ли нужно уточнять, что всё это богатство наблюдений и теоретических моделей очень хорошо работало на гипотезу Цвикки. Альтернативой могло быть предположение, что ньютоновскому закону тяготения требуются поправки, но такая точка зрения, мягко говоря, не пользовалась популярностью.

Вера Рубин скончалась 25 декабря 2016 года в возрасте 88 лет. В последние годы она уже не могла работать — старческая деменция брала свое. В общей сложности она опубликовала, одна или с соавторами, около ста научных работ и получила немало наград. Она была удостоена четырех почетных докторских степеней и множества иных отличий, включая Национальную медаль науки (1993), Золотую медаль Королевского астрономического общества (1996), Груберовскую международную премию за космологические исследования (2002) и медаль Джеймса Крейга Уотсона, присужденную в 2004 году Национальной академией наук США. В члены академии ее избрали еще в 1981 году — кстати, она стала второй женщиной-астрономом, удостоенной этой чести (первой была Маргарет Бербидж). Потомки запомнят ее как одного из пионеров и главных участников открытия темной материи, великого прорыва в астрофизике второй половины XX столетия и просто как очень хорошего человека. И, конечно, новая обсерватория в Чили на горе Серро-Пачон была названа ее именем совсем не случайно.
Фото: Центр науки Карнеги
1 www.trv-science.ru/2025/07/observatoriya-imeni-very-rubin-pervye-snimki
2 Vera C. Rubin and W. Kent Ford, Jr. Rotation of the Andromeda Nebula from a Spectroscopic Survey of Emission Regions, Astrophysical Journal, Vol. 159 (February 1970), 379–403
3 K. C. Freeman, On the Disks of Spiral and S0 Galaxies, Astrophysical Journal, Vol. 160, June 1970, 811–830

 (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)