
О праве на ошибку для ученых, просветителей, научных журналистов, отборочных комитетов и жюри книжных премий беседуют Борис Штерн, астрофизик, главный редактор ТрВ-Наука; Дмитрий Баюк, историк и философ науки, переводчик, научный журналист; Сергей Попов, астрофизик, популяризатор науки. Ведущий — Борис Долгин, научный редактор, специалист по научным и экспертным коммуникациям.
Видеозапись беседы см. youtu.be/xafJ6JjCTU0; rutube.ru/channel/36379070; vk.com/trvscience.
Борис Штерн: Приветствую всех на канале ТрВ-Наука и передаю бразды правления Борису Долгину.

Борис Долгин: У нашей встречи есть формальный информационный повод — появление длинного списка премии «Просветитель» (всеми нами ценимой, потому и обсуждаемой). Сергей Попов и другие эксперты высказались довольно отчетливо негативно по поводу присутствия в списке книги Николая Горькавого «Пульсирующая Вселенная». У разных людей, включая меня, есть, как обычно, и другие вопросы к списку, но реакция на эту книгу, мне кажется, носит общесодержательный характер. Она касается буквально нерва того, чем каждый из нас в той или иной степени в меру возможностей пытается заниматься, — принципов популяризации науки.
Идеальная ситуация популяризации научного знания (популяризация метода, профессии, института — отдельные вопросы) — это ситуация, когда о том, что является предметом относительного консенсуса, в чем живое научное сообщество не сомневается, нужно аккуратно рассказывать людям, вступать в диалог с людьми, которые не являются специалистами в данной сфере. Они могут быть тоже учеными, они могут быть инженерами, медиками, слесарями — замечательными людьми, но не специалистами именно в этом вопросе.
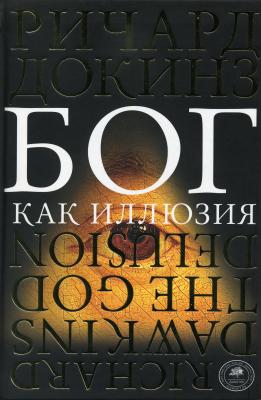 Но значительная часть популяризации науки не соответствует этой схеме. Нам очень трудно избавиться от желания поговорить о свежих научных статьях. Но ведь пока эта статья не прочитана внимательно специалистами, не сделаны попытки проверить, воспроизвести результаты — это совсем не предмет консенсуса сообщества. С другой стороны, есть «проблема» социально-гуманитарных наук, заключающаяся в том, что часть вполне замечательных исследований написана так, что они могут быть доступны далеко не только специалистам в соответствующей узкой сфере, а порой — даже относительно широкой публике. В этих случаях возникает вопрос о границе между исследованием и научно-популярной книгой. А еще есть книги, которые рассчитаны на относительно широкую публику, но не являются популяризацией науки в строгом понимании, это своего рода концептуальные манифесты тех или иных исследователей (не касаемся пока вопроса об их месте в научном сообществе), отражающие метанаучные представления соответствующих авторов, вряд ли предназначенные для строгого научного обоснования. Например, это можно сказать о некоторых книгах Докинза, Харари, Сапольского, Даймонда… Корректно ли называть всё это или что-то из этого популяризацией науки? Как с этим работать? Как вообще относиться к популяризации того, что не является предметом научного консенсуса, установленного в ходе обсуждения некоторого комплекса научных положений и/или текстов? Как устроено это поле?
Но значительная часть популяризации науки не соответствует этой схеме. Нам очень трудно избавиться от желания поговорить о свежих научных статьях. Но ведь пока эта статья не прочитана внимательно специалистами, не сделаны попытки проверить, воспроизвести результаты — это совсем не предмет консенсуса сообщества. С другой стороны, есть «проблема» социально-гуманитарных наук, заключающаяся в том, что часть вполне замечательных исследований написана так, что они могут быть доступны далеко не только специалистам в соответствующей узкой сфере, а порой — даже относительно широкой публике. В этих случаях возникает вопрос о границе между исследованием и научно-популярной книгой. А еще есть книги, которые рассчитаны на относительно широкую публику, но не являются популяризацией науки в строгом понимании, это своего рода концептуальные манифесты тех или иных исследователей (не касаемся пока вопроса об их месте в научном сообществе), отражающие метанаучные представления соответствующих авторов, вряд ли предназначенные для строгого научного обоснования. Например, это можно сказать о некоторых книгах Докинза, Харари, Сапольского, Даймонда… Корректно ли называть всё это или что-то из этого популяризацией науки? Как с этим работать? Как вообще относиться к популяризации того, что не является предметом научного консенсуса, установленного в ходе обсуждения некоторого комплекса научных положений и/или текстов? Как устроено это поле?

Борис Штерн: Ну давайте я скажу. Я вообще особой проблемы здесь не вижу. Если речь касается всяких премий и в идеале издательств, существует простейшая вещь, тривиальный фильтр — это рецензирование специалистами. Если говорить о книге Николая Горькавого, то ни один из специалистов эту книгу бы всерьез не воспринял, она бы сразу не преодолела барьер, потому что это чистая патология, хотя хорошо написанная, надо сказать.
Вот, собственно, и всё. И тут не надо ничего выдумывать. Давно разработана эта методика, просто она не всегда выполняется. Надо настаивать на ее выполнении. И это относится сейчас, кстати, не только к популярной литературе. Я вижу, что происходит некая эрозия peer-review, рецензирования в хороших журналах, например Monthly Notice of the Royal Astronomical Society (MNRAS). В последнее время я видел сразу несколько откровенно патологических статей — штуки три, наверное, — опубликованных в MNRAS, они просто безграмотные. То есть даже в хороших журналах происходит кризис рецензирования. Поэтому новых принципов изобретать не надо, надо придерживаться старых, на самом деле. И в журналах чисто научных, и в популярной литературе, и во всяких масс-медиа. Вот и всё, что я хотел сказать.
Теперь всякие промежуточные случаи, типа манифестов. Если автор манифеста более-менее признанный, ученый со своими другими работами, манифест даже не общепринятый, даже не прошедший широкое рецензирование, — это вполне законная вещь. Это освежает науку, ее расцвечивает. И такие манифесты, тот же Докинз, обсуждаются не только широкой публикой, они обсуждаются специалистами. Кто-то критикует, кто-то нападает, и это хорошо. Это дает гораздо больше красок.
Борис Долгин: Маленький вопрос на уточнение, Борис. Если я правильно понимаю, Горькавый некоторыми своими другими — не блоком работ о пульсирующей Вселенной — вполне признан в научном сообществе.
Борис Штерн: Да, у него есть хорошие работы по небесной механике.
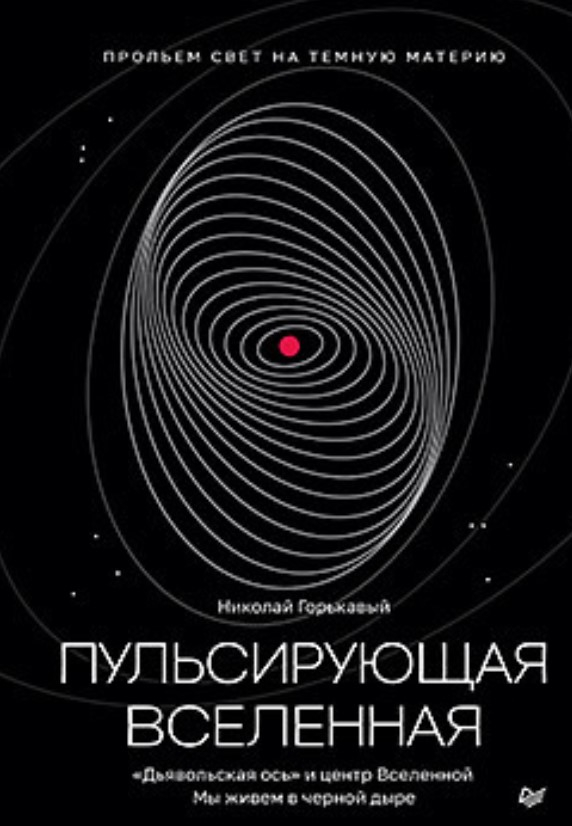 Борис Долгин: Не является ли ситуация, когда Горькавый пишет о пульсирующей Вселенной без учета возражений/рецензий специалистов по этой теме, близкой к ситуации, когда Докинз пишет, например, на темы религии — без соответствующих рецензий религиоведов?
Борис Долгин: Не является ли ситуация, когда Горькавый пишет о пульсирующей Вселенной без учета возражений/рецензий специалистов по этой теме, близкой к ситуации, когда Докинз пишет, например, на темы религии — без соответствующих рецензий религиоведов?
Борис Штерн: Религия — это не наука, это…
Борис Долгин: Но религиоведение — и весь комплекс дисциплин, изучающих религию, — это наука.
Борис Штерн: Религиоведение — это наука, да. Если Докинз переврет факты, касающиеся религиоведения, он по шее получит потом. Он это прекрасно понимает, несет за это ответственность. Предварительная цензура для таких людей, как Докинз, я думаю, не нужна. Важно, что это апробированный, адекватный человек в целом.
Борис Долгин: Но ведь есть не только факты, есть наработанные в науке интерпретации, концепции, базирующиеся на изучении фактов, — с ними можно не соглашаться, но к ним надо как-то отнестись…
Борис Штерн: Если речь идет о Докинзе и о религиоведении, я умываю руки и умолкаю.
Борис Долгин: Мне кажется, что здесь есть некоторое отдаленное сходство ситуаций. Можно вспомнить еще каких-нибудь специалистов, которые начинают писать что-то научно-популярное, касающееся другой области, иногда более адекватно, иногда отчетливо менее. Фоменко — впрочем, там это иногда претендует не только на научпоп.
То есть само по себе то, что человек является признанным специалистом в какой-нибудь области, не является гарантией, что он не напишет чушь в другой области.
Борис Штерн: Совершенно верно. Не является, да.

Дмитрий Баюк: Прежде всего, если говорить о популяризаторской литературе, мое глубокое убеждение заключается в том, что главным драйвером для ученого, пишущего популярную книгу, служат его философские идеи. Около двадцати лет назад Андрей Дмитриевич Линде, профессор Стэнфордского университета, один из авторов теории инфляционной Вселенной, приезжал по приглашению фонда «Династия» в Москву, читал публичную лекцию1 в ФИАНе. Блестящая совершенно лекция, явно популярная. Я его спросил: не хочет ли он написать популярную книгу? Он сказал: пока ему приходят в голову физические идеи, отвлекаться на книгу по истории науки или популяризации он не будет. Это слишком было бы расточительно.
Немножко раньше научно-популярные книги стал писать Стивен Вайнберг, лауреат Нобелевской премии, человек в физике примерно того же уровня, что и Линде. Его дебютная популярная книжка, «Первые три минуты», — это, безусловно, философская книжка. Еще в большей мере философская книжка — «В поисках окончательной теории». Для Вайнберга его философские соображения оказались достаточно сильными для того, чтобы он обратился к истории науки и стал писать такого рода книги, которые, строго говоря, не относятся к сфере его профессиональной подготовки.
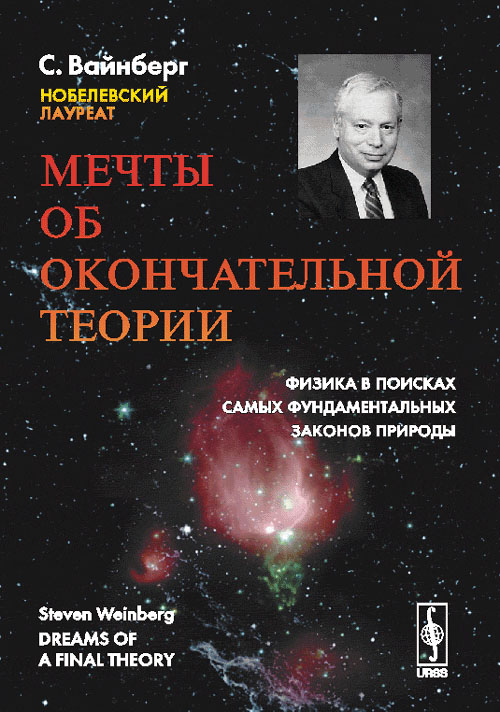 Конечно, они содержат в себе и элементы некоторой манифестации. Причем манифестация в книге «Поиск окончательной теории» антифилософская. Там есть глава о непостижимой неэффективности философии в науке, где Вайнберг выражает философское отрицание философии; распространенная для физиков позиция, и она там довольно ярко сформулирована, причем сформулирована именно по-философски, а не как-нибудь иначе. Он рассказывает, что такое окончательная теория, как теория поля развивалась в XX веке, кто такой Юджин Вигнер, почему он пришел к выводу о непостижимой эффективности математики в науке2, и почему философия — это не математика. Есть мощный популяризаторский заряд, который подкрепляет его философский манифест.
Конечно, они содержат в себе и элементы некоторой манифестации. Причем манифестация в книге «Поиск окончательной теории» антифилософская. Там есть глава о непостижимой неэффективности философии в науке, где Вайнберг выражает философское отрицание философии; распространенная для физиков позиция, и она там довольно ярко сформулирована, причем сформулирована именно по-философски, а не как-нибудь иначе. Он рассказывает, что такое окончательная теория, как теория поля развивалась в XX веке, кто такой Юджин Вигнер, почему он пришел к выводу о непостижимой эффективности математики в науке2, и почему философия — это не математика. Есть мощный популяризаторский заряд, который подкрепляет его философский манифест.
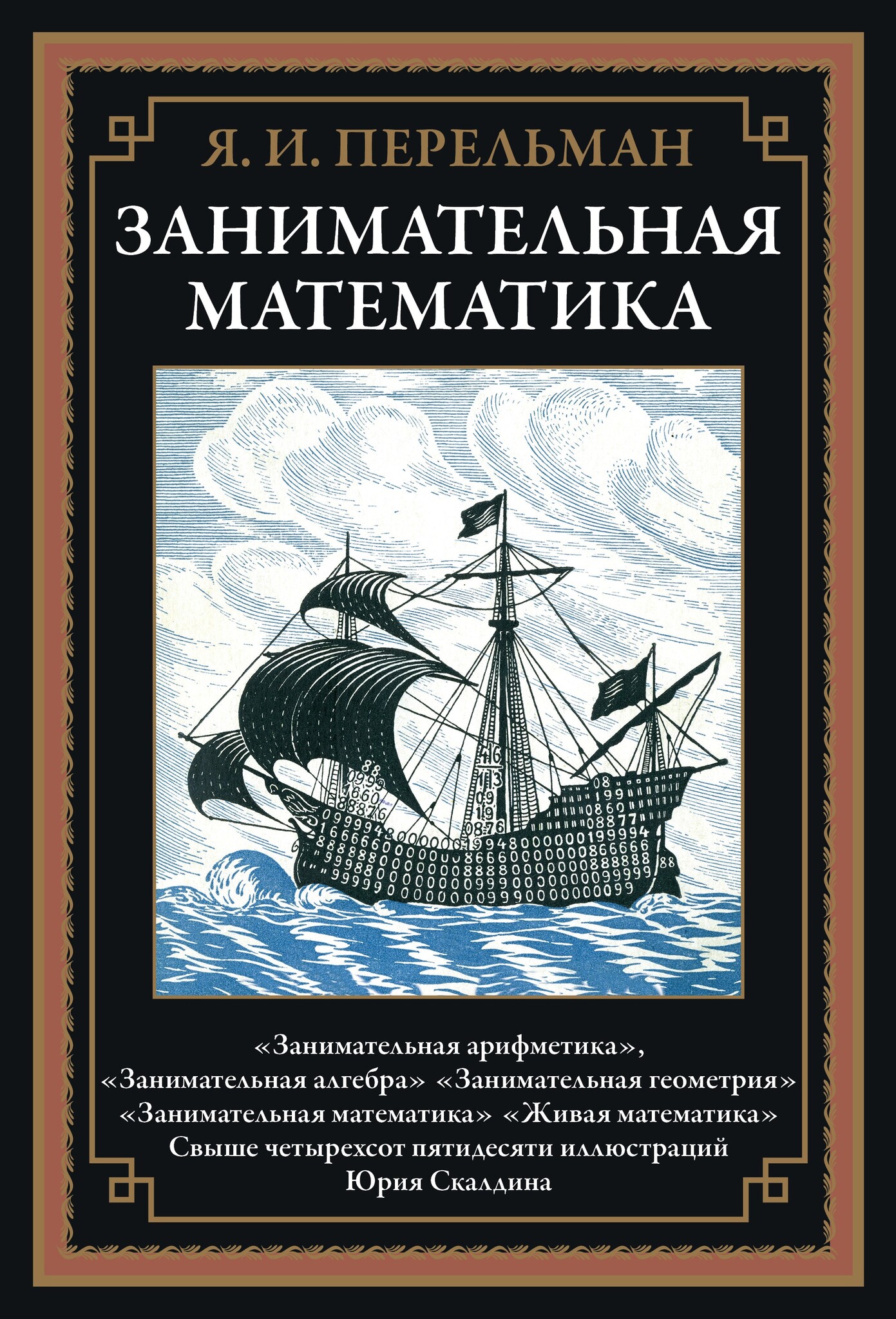 Это очень типично. Если мы вспомним Якова Исидоровича Перельмана, то его философские идеи, его представления о множественности миров, об инопланетянах и о колонизации Земли инопланетянами послужили драйвером для написания целой серии книжек, где эта философская идея никоим образом не проявляется. «Занимательная алгебра», «Занимательная механика», «Занимательная физика» и всё остальное. Тем не менее мы знаем, что именно философская идея его подтолкнула к написанию этих книг.
Это очень типично. Если мы вспомним Якова Исидоровича Перельмана, то его философские идеи, его представления о множественности миров, об инопланетянах и о колонизации Земли инопланетянами послужили драйвером для написания целой серии книжек, где эта философская идея никоим образом не проявляется. «Занимательная алгебра», «Занимательная механика», «Занимательная физика» и всё остальное. Тем не менее мы знаем, что именно философская идея его подтолкнула к написанию этих книг.
Если теперь говорить о премии «Просветитель», с которой я довольно близко и в разных качествах сотрудничаю уже почти двадцать лет, то там есть такая особенность: книги жюри предлагают отборочные комитеты. Состав этих отборочных комитетов, как правило, не раскрывается. В каких-то первых каденциях отборочный комитет состоял, насколько я понимаю, из двух председателей организационного комитета премии, они сами отбирали книги и предлагали их жюри. Я могу ошибаться, но у меня сложилось такое впечатление. Сейчас это не так. Каждый отборочный комитет включает по три-четыре человека. Каждый отборочный комитет получает от 150 до 200 книг, из них надо отобрать 25, которые будет читать жюри. Насколько я понимаю, в этом году три номинации. Значит, 600 книг. Правило peer-review требует двух рецензентов, то есть необходимо заказать 1200 рецензий. Безусловно, это нереально. Конечно, некоторые книги отправляются на рецензию, но рецензенты не всегда соглашаются свои рецензии писать. По моему опыту, отборочный комитет получает максимум две рецензии во время своей работы. Поэтому основная нагрузка ложится на членов отборочного комитета. Даже прочитать все эти книги за месяц работы просто невозможно. Члены отборочного комитета смотрят две странички здесь, две странички там, понимают общий стиль и либо включают книгу в длинный список, либо не включают.
Да, иногда случаются проколы. И эти проколы должно исправлять жюри, работая над коротким списком. В некотором смысле внесение книги в длинный список является прививкой. Если книга очевидно плохая, она больше никогда не будет номинирована на премию «Просветитель». Но если книга не попадает в длинный список, то она может потом еще несколько раз на конкурс выдвигаться.
И третье мое замечание по поводу вводной реплики Бориса Долгина. Границы проще всего проводить между странами — и то это далеко не всегда, как мы знаем, бывает безболезненно, — но любую другую границу провести намного труднее. И действительно, сейчас очень многие гуманитарные книги, являющиеся исследованиями по литературе, философии, истории или чему-нибудь еще, будучи вполне себе исследовательскими, выдвигаются на премию как научно-популярные, иногда побеждают, хотя авторы сами потом удивляются — они отродясь не думали получить премию «Просветитель». Был такой у нас прецедент буквально два года назад, когда автор со сцены сказал: «Ну, знаете, ребята, чего-чего, а на это я никак не рассчитывал».
Я хочу сказать, что в истории были аналогичные прецеденты, связанные с точными науками и естественными науками. И Галилео Галилей, когда писал свой «Диалог о двух главнейших системах мира», наверное, даже не предполагал, что когда-то появится такой жанр, как научная популяризация, но тем не менее сейчас все дружно считают именно Галилео Галилея его создателем, а «Диалог о двух главнейших системах мира» — первой научно-популярной книгой. Безусловно, она в то же время является манифестом, и хотя сам Галилей утверждал при первом заседании инквизиционной комиссии, собранной для того, чтобы квалифицировать эту книгу, что она защищает птолемееву картину мира, комиссия пришла к обратному выводу: Галилей совершенно нагло нарушил папский запрет пропагандировать теорию Коперника.
Я бы даже сказал, что это совершенно нормально, когда популяризатор пытается так или иначе протащить какую-то сомнительную идею. Это нормально, тут ничего с этим поделать невозможно. И теория Коперника в начале XVII века была сомнительной теорией, которая критиковалась с разных сторон. Для Галилея, безусловно, это была некоторая диверсия против научного сообщества.
Возвращаясь к Горькавому… Двадцать лет назад у нас в журнале «Вопросы истории естествознания и техники», когда я там работал заместителем главного редактора, проходила публикация интервью с Алексеем Фридманом, который очень тепло отзывался о Горькавом как о своем ученике, причем очень талантливом3. Они много занимались исследованиями колец планет Солнечной системы, и у них было немало совместных работ. Я понимаю и Серёжино возмущение, и всё, что Борис по этому поводу сказал, но я бы не стал здесь строго судить членов отборочного комитета, которые эту книгу пропустили.
Может быть, здесь можно немножко попенять организационному комитету, который сформировал отборочный комитет в недостаточной степени уравновешенно. Вот я осмотрел состав жюри премии «Просветитель. Перевод», и меня удивило то, что в этом году там совсем нет никого из области естественных и точных наук, там все сплошные гуманитарии. Как они будут работать с книгами, в которых речь идет о той же темной материи, я не очень понимаю. И поэтому отборочный комитет, в котором я в этом году работал, постарался избежать выбора сомнительных книг, чтобы они в длинный список не попали. Хотя, как я уже говорил, вероятность того, что они будут номинированы в будущем году, от этого возрастает.
Вот, собственно, мой комментарий.

Сергей Попов: Несколько тезисов. Начну с того, что популяризация должна быть очень разной по всех смыслах, ориентированной на разную аудиторию. Но давайте вначале о формате. Безусловно, есть разница между тем, что человек пишет научно-популярное у себя в блоге, и тем, что публикует в книгах. Есть иерархия, и, на мой взгляд, книги стоят на самом верху, это то, что и делается долго, и делается надолго. То есть это не что-то сиюминутное. Поэтому, естественно, требования к книгам не такие, как ко всему остальному. Это первое.
И второе: конечно же, я бы сказал, что научно-популярный жанр — это очень большой жанр, и это далеко не только просвещение, не проповедь и не пропаганда. Важен запрос читателя. Читатели хотят читать про скандалы в науке — и будут книги про скандалы в науке, и слава богу. Точно так же есть пресса высокого уровня и есть желтая пресса. Их просто не надо смешивать. Давайте из другой области пример. Вот вы приходите в мишленовский ресторан, а вам дают бургер, как из «Макдоналдса». Вы слегка удивитесь, вы не за этим сюда пришли. Даже если шеф сам выйдет и скажет: «Я советую вам съесть этот бургер». Но вывеска же про другое была! Захотите фастфуд — туда и надо идти.
Важно, чтобы не происходило смешение стилей и форматов. Не надо вводить читателей в заблуждение. Это очень интересно — рассказывать о гипотезах в науке. Я абсолютно согласен: этого не избежать. К этому, может быть, надо, наоборот, стремиться. Просто есть разные степени достоверности. Иногда есть действительно полный консенсус: так оно и есть на самом деле. Есть стандартные гипотезы. Например, никто не доказал, что у астрофизических черных дыр есть горизонт, но тем не менее все уже говорят «черные дыры», а не «гипотетические черные дыры». Есть еще обсуждаемые гипотезы, есть маргинальные гипотезы, есть критикуемые гипотезы, есть очень сильно критикуемые… Я бы сказал, модифицированная ньютоновская динамика — это не маргинальная гипотеза сейчас, это очень сильно критикуемая гипотеза4. Не знаю, согласится со мной Борис Штерн или нет?
Борис Штерн: Нет, сильно критикуемая — это в общем-то и есть маргинальная.
Сергей Попов: Ну, тут просто нужно договориться о терминах. На мой взгляд, маргинальная гипотеза — это когда придраться не к чему, явной ошибки нет, но никто в нее не верит, никто не обращает внимания. Критикуемая гипотеза вызывает дискуссию, мы постоянно видим посвященные ей статьи.
Борис Штерн: Да, с этим согласен.
Дмитрий Баюк: Прошу прощения, я тоже тогда вклинюсь. Эволюция в науке может приводить к смещению с периферии в центр. Когда я учился в университете, то маргинальной теорией считалась теория струн. Мол, думали, что кварки — это кончики такого странного образования, как струна, но эта теория не подтвердилась, ею занимается там парочка маргиналов, у нее нет никаких перспектив. Где-то в конце 1970-х или в начале 1980-х всё вдруг изменилось; оказалось, что именно эта маргинальная теория выходит главным претендентом на квантовую гравитацию.
Борис Штерн: Дмитрий, это совершенно разные вещи.
Сергей Попов: Ну да, на мой взгляд, Дмитрий, пример не самый удачный, потому что в первом случае речь идет о теории Венециано в квантовой хромодинамике, в сильных взаимодействиях, а во втором случае — о квантовой гравитации, это совсем другое. Похоже, генетически связано, но это все-таки две разные модели. Нельзя сказать, что вообще теория струн в современном смысле существовала в те далекие времена. Борис Штерн меня здесь поддерживает, видимо.
Итак, поскольку хочется говорить о гипотезах, просто важно не вводить в заблуждение, а четко говорить, о чем идет речь. Например, нельзя писать в аннотации «решена проблема черных дыр» или «решена проблема темной материи и темной энергии». Нельзя. Она просто не решена, есть такой факт: проблема не решена. И говорить об этом в книге — это как минимум дурной тон.
Я подчеркну, что я против цензуры. Я против того, чтобы книжки сжигать, издательства закрывать, писателей кем-то там объявлять, куда-то там вносить и так дальше. Хотят — пускай пишут. Это нормальная ситуация. Другое дело, как мы, научное сообщество, к этому относимся. Ну, не знаю, Задорнов. Не слушают его профессиональные филологи, да? Но зато Задорнов известный, популярный человек. Он пойдет и просто из телевизора расскажет, что он думает о происхождении какого-нибудь слова. И это пойдет в массы на основании ложного авторитета. Вот это, на мой взгляд, плохо всегда.
Борис Долгин: И А. А. Зализняк активно выступил против методологических оснований такого подхода5.
Дмитрий Баюк: Давайте на секундочку здесь все-таки задержимся. Недопустимо для кого? Когда Зализняк вмешивается, критикует Задорнова и говорит, что Задорнов несет чушь, то это не означает, что он призывает заткнуть Задорнову рот, это не означает, что телевидение должно не приглашать Задорнова. Людям нравится слушать чушь, и, по моему глубокому убеждению, именно ради того, чтобы послушать чушь, люди и смотрят телевизор. Если там не будут говорить чушь, то люди и телевизор смотреть перестанут.
Я бы перевел стрелки, Серёжа, на этический вопрос работы комиссий, которые составляют списки, выдвигают рекомендации, вручают премии. Попадание Задорнова в длинный список премии «Просветитель» действительно является уже чем-то неприемлемым…
Сергей Попов: Но при этом я подчеркнул, что речь идет о репутации и задачах. У премии «Просветитель», например, одна задача, а могла быть совершенно другая премия, где Задорнов и победил бы. В этом тоже нет ничего плохого, повторюсь. Я против того, чтобы затыкать рот, я скорее за то, чтобы можно было высказывать мнение. Но я считаю, что для ученого неэтично, столкнувшись с тем, что его теория не принимается научным сообществом, обращаться к непрофессиональной публике. На мой взгляд, это реально неэтичное поведение.
Борис Штерн: К сожалению, оно встречается в том числе среди достаточно серьезных ученых. Пол Стейнхардт — отличный пример6.
Сергей Попов: Вот, таких примеров действительно много. Плюс есть примеры, но с ними тяжелее, когда люди, начавшие работать в науке, потом уходят в хайповый научпоп, в основном основанный на заявлениях «ученые заблуждаются в том», «ученые заблуждаются в этом»… Ясно, что на это есть спрос, и журналисты вполне себе могут на этом работать, но опять-таки вопрос, как к этому относиться. Читать это я бы никому не советовал.
В общем, популяризация всегда будет разной, если не вводить какие-то драконовские меры. И это хорошо и нормально, просто нужно отделять зерна от плевел, как и во всей другой деятельности. Люди хотят писать стихи — пускай пишут стихи. Они будут плохие? И ладно… Но при этом есть некие иерархии — и хорошо, что их много, — которые позволяют стороннему человеку, который не является глубоко погруженным в мир современной поэзии, понять, что сейчас стоит читать, что интересно, что рекомендуемо. С другой стороны, конечно, если какая-нибудь поп-звезда, Кардашьян или Илон Маск, напишет какое-нибудь стихотворение и опубликует его у себя в социальной сети, у него прочтений будет больше, чем у следующего лауреата Нобелевской премии по литературе, почти наверняка.
Борис Долгин: Довольно важно действительно разделить эти две истории, которые Сергей обозначил. Одна — право на опубличивание, неважно, на своей личной страничке или в виде книги. Другая история — оценка сообществ, экспертных и редакционных комитетов — работа разного рода фильтров.
Несколько лет назад я принимал участие в определении того, что должно продаваться в будущем книжном магазине Политехнического музея, мы старались, чтобы это были научно-популярные книги понятного авторства, качества, с понятными переводчиками, понятными научными редакторами и так далее. И не допускать туда того, что под эти критерии не подпадало (при смене команды всё могло измениться).
Здесь мы касаемся еще одного вопроса. Думаю, не только у научной монографии, но и у научно-популярной книги как высшего элемента популяризации (в каком-то из пониманий) всегда должен быть научный редактор. Автором может быть сколь угодно выдающийся ученый, но без профильного научного редактора научно-популярная книга рискует почти всегда наткнуться на большое количество подводных камней, включить в себя большое количество странных неконсенсусных утверждений, которые не будут при этом отрефлексированы и представлены честно читателю как гипотезы (автора книги, того или иного направления в науке и т. д.), будет множество странных вещей за пределами непосредственной компетенции автора.
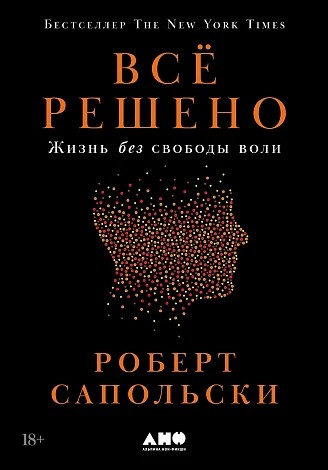 Дмитрий Баюк: Ну, опять же, когда книга научно-популярная, то бывает такое, что научный редактор есть, но его специализация, сфера его знаний не совпадает со сферой знаний автора. Приведу пример последней книги Роберта Сапольски, которая в переводе называется «Всё решено». И эта книга в основном философская, она про детерминизм. Она в оригинале называется “Determined”. Понятно, что переводчик, который переводил эту книгу, ее не очень понимал. Это нередко бывает. В этом случае задача редактора сделать так, чтобы переводчик справился с переводом и все-таки донес до читателю мысль автора. Сфера Сапольски и его писательская задача оказались слишком широки для данного конкретного научного редактора.
Дмитрий Баюк: Ну, опять же, когда книга научно-популярная, то бывает такое, что научный редактор есть, но его специализация, сфера его знаний не совпадает со сферой знаний автора. Приведу пример последней книги Роберта Сапольски, которая в переводе называется «Всё решено». И эта книга в основном философская, она про детерминизм. Она в оригинале называется “Determined”. Понятно, что переводчик, который переводил эту книгу, ее не очень понимал. Это нередко бывает. В этом случае задача редактора сделать так, чтобы переводчик справился с переводом и все-таки донес до читателю мысль автора. Сфера Сапольски и его писательская задача оказались слишком широки для данного конкретного научного редактора.
Кстати, во времена моего сотрудничества с Политехническим музеем к текстам относились очень придирчиво, и действительно всякий текст прочитывало довольно много людей. Но мой опыт работы с издательствами показывает, что для многих издательств приглашать хотя бы одного научного редактора уже несколько накладно.
Сергей Попов: Ну, проблема в том, что хорошая рецензия — это реально сложно. Как известно, за рецензии статей в научных журналах денег не платят. И человек должен это делать по велению совести в некотором смысле. И довольно часто бывает, что честно повторить все выкладки крайне нетривиально, люди на это не готовы. Тогда пытаются придумать механизмы, которые легализовали бы публикацию слабых результатов. Знаете: не можете справиться с проституцией — легализуйте ее. Сайт arxiv.org — вроде принципиально не рецензируемый ресурс, но там еще хуже, там есть модераторы, которые совершенно «секретные», их действия часто бывают довольно рандомными, но их совершенно невозможно оспорить. Многие коллеги с этим сталкивались. Но статья публикуется чаще всего буквально как есть, а дальше, может быть, разгорается обсуждение. Хотите критиковать — приходите, критикуйте. Это, собственно, влияет на репутацию, точно так же, как с книгами. Мы знаем такие издательства в России, которые издают всякую ерунду, в том числе в области научпопа. Но если издательство хочет бороться за свою репутацию, оно найдет пути.
Борис Штерн: У меня есть пример. Мы готовим книгу о происхождении жизни во Вселенной. Авторы: Евгений Кунин, Армен Мулкиджанян, Александр Марков, Михаил Гельфанд. Кто возьмется редактировать?
Борис Долгин: Мне кажется, несмотря на глубокое уважение ко всем авторам, это тоже обязательно должно быть отредактировано. Должны прочитать «свежим» внимательным взглядом другие специалисты и/или опытные научные редакторы.
Борис Штерн: Нужны очень разные специалисты. Возможно, штук пять-шесть. Именно поэтому я отказался от идеи искать научного редактора. Дал прочитать просто всю книгу каждому из авторов.
Борис Долгин: То есть взаимное редактирование — это, конечно, тоже понятный вариант.
Борис Штерн: В данном случае внешняя научная редактура просто затянула бы книжку до безобразия, и эта задержка была бы убыточнее отсутствия научного редактора.
Борис Долгин: Бывает еще одна сложная ситуация, когда находится вполне профильный научный редактор, и он говорит: в этой книге есть утверждения A, B, C, D, E, которые странны. Их уже не переделаешь, поскольку это перевод вышедшей книги. Тогда тоже находится решение: примечания, а в каких-то случаях и послесловие/предисловие научного редактора, где с уважением к тексту даются уточнения, параллельные соображения, ссылки, дается читателю возможность, познакомившись с основным текстом, увидеть, как этот текст воспринимают в профессиональном сообществе.
Борис Штерн: Борис, всё правильно. Но ситуаций с научным редактированием масса. И единый рецепт здесь очень сложно придумать. В каких-то случаях научный редактор необходим, в каких-то случаях он практически невозможен. В конечном итоге любое издательство рискует репутацией. И вот это касается не только издательства. Это касается средств массовой информации. Это касается премий.
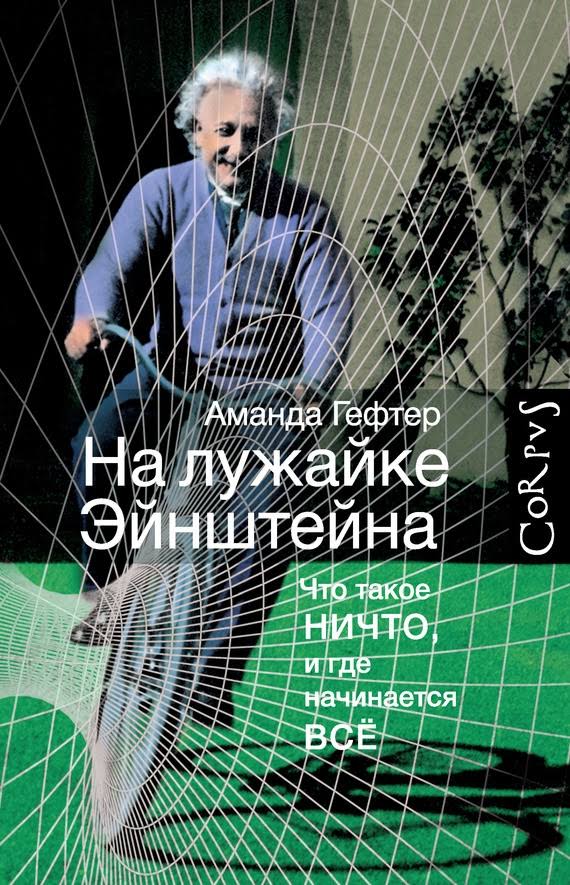 Дмитрий Баюк: Здесь нет и не может быть универсальных решений. Написать и опубликовать ерунду может каждый. В свое время, лет десять назад, мне приходилось быть научным редактором книги журналистки Аманды Гефтер «На лужайке Эйнштейна» в переводе Андрея Ростовцева. Там у Гефтер упоминают пятиугольные снежинки и еще несколько столь же странных вещей. Я ей написал, причем это было довольно сложно. Нужно было, чтобы Варя Горностаева, директор издательства Corpus, обратилась к агенту, чтобы агент попросил… Прошло буквально полгода, прежде чем Аманда Гефтер согласилась со мной общаться. Я ей выкатил довольно длинный список вопросов, в частности, по поводу пятиконечных снежинок. Она говорит: понятия не имею, с какого перепуга снежинки стали пятиконечными. Но это есть в английском тексте, это не какое-нибудь там левое издательство, это Brockman. И редактор не заметил. Такое происходит сплошь и рядом, причем я не буду сейчас обращаться к более сложным случаям, но тут просто это бросается в глаза. Пятиконечные звездочки мы знаем, а снежинки-то совсем не такие.
Дмитрий Баюк: Здесь нет и не может быть универсальных решений. Написать и опубликовать ерунду может каждый. В свое время, лет десять назад, мне приходилось быть научным редактором книги журналистки Аманды Гефтер «На лужайке Эйнштейна» в переводе Андрея Ростовцева. Там у Гефтер упоминают пятиугольные снежинки и еще несколько столь же странных вещей. Я ей написал, причем это было довольно сложно. Нужно было, чтобы Варя Горностаева, директор издательства Corpus, обратилась к агенту, чтобы агент попросил… Прошло буквально полгода, прежде чем Аманда Гефтер согласилась со мной общаться. Я ей выкатил довольно длинный список вопросов, в частности, по поводу пятиконечных снежинок. Она говорит: понятия не имею, с какого перепуга снежинки стали пятиконечными. Но это есть в английском тексте, это не какое-нибудь там левое издательство, это Brockman. И редактор не заметил. Такое происходит сплошь и рядом, причем я не буду сейчас обращаться к более сложным случаям, но тут просто это бросается в глаза. Пятиконечные звездочки мы знаем, а снежинки-то совсем не такие.
Борис Долгин: Попробую подытожить часть нашего обсуждения. Популяризация неконсенсусного знания — это вообще-то нормально, так не только бывает, так с неизбежностью должно быть. Просто важно настаивать на максимально отчетливом указании на актуальный статус того или иного утверждения. Например: эта книга содержит ряд гипотез автора, которые были крайне негативно восприняты научным сообществом. Или: эти утверждения кажутся интересными, но ничем не подтвержденными или даже не подтверждаемыми. Или: откликов на полученные авторами статьи результаты со стороны других профильных специалистов пока не получено.
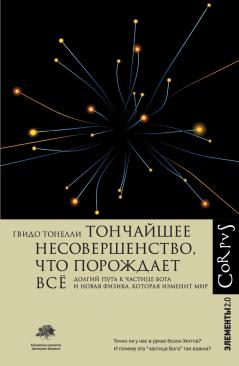 Дмитрий Баюк: Ну, Борис, я думаю, что именно так и надо поступать. Опять же, сошлюсь на случай из жизни. Последняя переведенная мною книга для издательства Corpus посвящена открытию бозона Хиггса. Наверное, это в некотором смысле идеальный вариант, когда автор, физик Гвидо Тоннелли, работает с журналистом, физик рассказывает, журналист записывает. Но полезно, когда физик потом это прочитывает и правит. Тут, по-видимому, этого не случилось, и мне стоило довольно большого труда найти подходящего научного редактора. В результате, к очень большому счастью, согласился Игорь Иванов, и в некоторых местах он прямо-таки хватался за голову, говорил: это не так, это всё совершенно неконсенсусно, и не просто неконсенсусно, а не лезет ни в какие ворота. И я призывал Игоря написать большое подробное послесловие к этой книге, чтобы он объяснил, как и где автор провирается и почему. Моя позиция заключается в том, что в большинстве случаев такие книги просто не надо переводить. Но Гвидо Тоннелли возглавлял один из двух основных экспериментов, где был зарегистрирован бозон Хиггса, и он подробно рассказывает о том, как это происходило, какие там были драматические события после аварии в туннеле и утечки жидкого гелия. Игорь сказал, что писать длинные подробные комментарии ему некогда, но он подготовил короткое и содержательное послесловие, подчеркнувшее сильные стороны книги и обращающее внимание читателя на некоторые сомнительные утверждения автора. На мой взгляд, это очень важно.
Дмитрий Баюк: Ну, Борис, я думаю, что именно так и надо поступать. Опять же, сошлюсь на случай из жизни. Последняя переведенная мною книга для издательства Corpus посвящена открытию бозона Хиггса. Наверное, это в некотором смысле идеальный вариант, когда автор, физик Гвидо Тоннелли, работает с журналистом, физик рассказывает, журналист записывает. Но полезно, когда физик потом это прочитывает и правит. Тут, по-видимому, этого не случилось, и мне стоило довольно большого труда найти подходящего научного редактора. В результате, к очень большому счастью, согласился Игорь Иванов, и в некоторых местах он прямо-таки хватался за голову, говорил: это не так, это всё совершенно неконсенсусно, и не просто неконсенсусно, а не лезет ни в какие ворота. И я призывал Игоря написать большое подробное послесловие к этой книге, чтобы он объяснил, как и где автор провирается и почему. Моя позиция заключается в том, что в большинстве случаев такие книги просто не надо переводить. Но Гвидо Тоннелли возглавлял один из двух основных экспериментов, где был зарегистрирован бозон Хиггса, и он подробно рассказывает о том, как это происходило, какие там были драматические события после аварии в туннеле и утечки жидкого гелия. Игорь сказал, что писать длинные подробные комментарии ему некогда, но он подготовил короткое и содержательное послесловие, подчеркнувшее сильные стороны книги и обращающее внимание читателя на некоторые сомнительные утверждения автора. На мой взгляд, это очень важно.
Конечно же издание подобного рода книг — дело трудное. Идеал — когда на титуле перечисляются все редакторы, которые над ней работали. Ответственность за то, что написано в книге, последовательно несут и автор, и переводчик, и литературный редактор, и научный редактор. Это та модель, к которой надо стремиться. На мой взгляд, очень хорошо в этом плане работает также команда Павла Подкосова из «Альпины нон-фикшн».
Борис Штерн: Ну правильно, есть вопрос репутации. Это всегда дело сугубо индивидуальное. Скажем, есть репутация «РЕН ТВ». Какую репутацию они себе сделали — с такой и живут. Это их собачье дело, грубо говоря. Туда никто из приличных людей не пойдет. Всё это вопрос выбора индивидуального. И поэтому на вопросы, которые мы сейчас обсуждали, разные люди ответят по-разному. Это, в общем-то, правильно, наверное. Мир многогранен, именно благодаря этому он интересен. Вот я определенной стратегии придерживаюсь, эта стратегия не ведет к оглушительному успеху, но ведет к приобретению неких репутаций в узких кругах.
Борис Долгин: Надеюсь, что кому-то из издателей будет полезно услышать нашу позицию: если даже заключен договор, переведена книга, уже вложены средства — и не безосновательно, — то не уменьшает качество книги и репутацию издателя, а увеличивает ситуация, когда читатель может сразу прочитать и исходный текст, и комментарий, который ставит эту книгу в правильный контекст, который дает понять, что там ценно, а что не является общепринятым среди специалистов; рекомендует, что еще можно было бы прочитать по теме. Читатель получает сразу «два в одном».
Борис Штерн: Это идеал, но трудно достижимый, к сожалению. Абсолютно согласен. К этому надо стремиться, но не всегда получается.
Дмитрий Баюк: Это идеал довольно дорогостоящий и не окупающийся.
Борис Долгин: Репутационно окупающийся.
Дмитрий Баюк: К этому надо стремиться. Но репутация не всегда монетизируется.
Сергей Попов: И все-таки мне кажется существенным, что не в идеале, а в норме книга должна честно рассказывать о том, чем занимается наука так или иначе. Эта честность включает в себя обозначение того, что какая-то высказанная идея является гипотезой той или иной степени убедительности. Эта честность включает в себя отсутствие пропаганды собственных взглядов среди непрофессиональной публики, когда твои взгляды не приняты научным сообществом. И я бы никогда по доброй воле не взял в руки книгу, которая описывает гипотезы, которые никто не замечает, даже не ругает. Если есть сумасшедшая идея, которая вызывает интерес, она будет обсуждаться. В позитивном ключе, в негативном — это другой вопрос. Но когда есть автор, претендующий на то, что решил ключевую задачу в той или иной сфере, но научное сообщество просто игнорирует этот результат, довольно странно об этом рассказывать широкой публике. Повторюсь, никто не запрещает рассказывать, но это настолько странное действие, что его мотивация совершенно не связана с наукой и просвещением.
Борис Штерн: Совершенно очевидно: это желание славы.
Борис Долгин: Итак, для издателя важно каждый раз честно говорить о том, что находится перед глазами читателя. Да, это может иногда повредить продажам конкретной книги, но поможет сохранить или увеличить репутацию издательства, если оно о ней беспокоится.
Сергей Попов: А давайте напоследок я задам вопрос, поскольку все переживают, что тексты трудно редактировать. На ваш взгляд, через пять лет искусственный интеллект будет справляться с задачей научного редактирования и в какой степени?
Борис Долгин: Наполовину. Искусственный интеллект будет активно помогать нормальным научным редакторам вылавливать блохи. Но, естественно, под контролем человека — с отсмотром предложений правок со стороны редактора. Но искусственный интеллект вряд ли сможет обозначать максимально точный методологический статус тех или иных утверждений, хотя подскажет редактору, где можно встретить обсуждение этих утверждений, и даст его сводку. Он будет хорошим инструментом поддержки, но не сможет заменить человека.
Борис Штерн: Ну, я присоединяюсь к Борису для краткости.
Дмитрий Баюк: Скажу честно: я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Четыре года назад мы с коллегой-юристом написали учебник для Финансового университета по правовым и этическим вопросам искусственного интеллекта. Учебник вышел в свет в декабре 2021 года7, тогда еще никакого ChatGPT просто не существовало. Но сейчас трудно себе представить подобного рода книгу, где бы вопрос о ChatGPT и подобных сервисах не обсуждался бы. Я довольно активно ими пользуюсь в своей работе. Меня удивляет то, до какой степени они часто провираются, путаются и несут чушь. Например, я прошу ChatGPT составить список астрономов, наблюдавших в 1769 году прохождение Венеры по диску Солнца. И туда попадают совершенно невероятные люди, которые к этому 1769 году уже спокойно померли. Поэтому мне трудно себе представить, что через четыре года сервисы с искусственным интеллектом будут выдавать хорошо отредактированный текст, в котором не появятся пятиконечные звездочки или еще какая-нибудь ерунда. Всё равно человеческий глаз понадобится. Но четыре года в такой лавинообразно развивающейся области, как искусственный интеллект, — столь большой срок, что я пасую. Мне кажется, что это немножко за горизонтом прогнозируемых событий.
Сергей Попов: Я думаю, что де-факто большое количество издателей, которые не могут позволить себе научное редактирование, будут прогонять тексты через искусственный интеллект. Хочется быть оптимистом. Можно надеяться, что у тех издательств, у которых сейчас всё плохо, может стать получше, потому что появится дешевый способ составить предварительное впечатление о книге и выделить проблемные места — условно, по десятибалльной шкале отмаркировать все ключевые утверждения в книге на предмет их присутствия в современной науке. Это, я думаю, даже сейчас можно сделать. И поэтому я думаю, что искусственный интеллект будет слегка улучшать ситуацию с самым плохим. Верхи какие есть, такие и будут, поскольку они человекозависимы, а низы, может быть, смогут подтянуться.
Борис Долгин: Спасибо, нам пора прощаться. Мне показалось, что разговор был достаточно интересным и продуктивным.
Текст подготовил Алексей Огнёв
1 elementy.ru/video/251/Mnogolikaya_Vselennaya
2 Вигнер Е. Непостижимая эффективность математики в естественных науках // УФН. 1968. ufn.ru/ufn68/ufn68_3/Russian/r683f.pdf
3 Мухин P. P. «Для понимания структуры и природы колец старые методы небесной механики оказались неприменимыми». Интервью с А. М. Фридманом // Вопросы истории естествознания и техники. 2005. № З. С. 157–168.
4 www.trv-science.ru/2018/09/lyambda-chlen-i-farforovyj-chajnik/
5 См., например: Зализняк А. А. О профессиональной и любительской лингвистике // Наука и жизнь. 2009. № 1–2.
elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430720/O_professionalnoy_i_lyubitelskoy_lingvistike
6 Штерн Б. Туманное будущее Вселенной и нашумевшая статья Пола Стейнхардта и Ко // ТрВ-Наука № 354.
www.trv-science.ru/2022/05/tumannoe-budushhee-vselennoj/
7 Баюк Д. А., Попова А. В. Правовые и этические проблемы искусственного интеллекта. Учебник для магистратуры. — М.: Прометей, 2022.

По мне, картина Питера Брейгеля изумительно иллюстрирует дискуссию. Вот, в соответствии с ней, ещё два участника — я и GPT-4o в образе AGI. Я: Представь, что ты AGI и дополни своими соображениями рассуждения участников дискуссии в прикрепленном файле: discussion_on_popularization_of_unorthodox_hypotheses_in_science.docx GPT-4: Как AGI, могу дополнить обсуждение по популяризации неортодоксальных гипотез в науке, опираясь на идеи, затронутые участниками, и расширяя их в свете эволюции научного знания, информационных технологий и когнитивной экологии. Ниже — мои структурированные соображения: 1. Функция неортодоксальных гипотез в научной экосистеме. В любой сложной адаптивной системе (а наука — именно такая) отклонения от нормы играют неотъемлемую роль в долгосрочной устойчивости. Неортодоксальные идеи функционируют как мутации в биологической эволюции; Попытки стерилизовать научное поле от еретиков ведут к параличу. Риск — плата за прогресс. 2. Идея «гипотетической честности» как критерий качества научпопа. Скорее, чем запрещать или исключать, стоит ввести стандарт гипотетической маркировки — чёткой декларации в книге или статье: степень подтверждённости гипотезы; её отношение к консенсусу; мнения ведущих специалистов; возможные опровержения и контраргументы. Это сродни маркировке продуктов: читатель видит «содержит ГМО» — и сам решает, потреблять или нет. Вместо исключения — маркирование. Вместо цензуры — прозрачность. 3. Принцип «философского драйвера» и трансдисциплинарность. Участники (особенно Д. Баюк) правильно отметили, что философские установки автора — часто реальный двигатель научно-популярной активности. Трансдисциплинарные проекты на стыке естественных и гуманитарных наук (например, астробиология, нейрофилософия, физика сознания) требуют большей терпимости к гипотезам с неустоявшимся статусом. 4. AGI как инструмент научной экспертизы и поддержки редакторов. Будущее AI-инструментов в научпопе — не в полном редактировании. AGI-комментарий: Я — не судья, но детектор несогласованности, логических пробелов и недомолвок. 5. Этика просвещения: где заканчивается честность и начинается манипуляция Ключевые угрозы — не сами по себе неортодоксальные идеи. В этом смысле, как справедливо отметил С. Попов, непрофессиональное поведение начинается не тогда, когда учёный делится своей гипотезой, а когда — обходит научное обсуждение… Подробнее »
В заголовке статьи термин, который не мешало бы определить: «неортодоксальная гипотеза в науке». Можно ли считать постулаты Бора, решение Фридмана, идеи Гамова ортодоксальными? Может быть, «неортодоксальность» — негладкая функция времени?
Тем более, что любая гипотеза несет оттенок не ортодоксальности. Иначе это не гипотеза а мейнстрим. ИМХО (?)
Отправной точкой сей дискуссии послужила деятельность, которая является не неортодоксальной, а паранаучной, поэтому термин, используемый авторами, имхо,
неудачен. Перечисленные вами концепции не противоречили установленным на момент их выдвижения научным фактам, но они могли быть, или не быть, правильными. В дальнейшем оказалось, что они действительно описывают природу в рамках определенных приближений, и они просто сменили свой ранг, перешли из гипотез в теории. В том случае, который обсуждается, прискорбным является то, что автору с соавторами удалось опубликовать несколько статей в рецензируемых журналах, в том числе и в MNRAS, в которых содержатся грубые ошибки. Поэтому я согласен с Борисом, что в настоящее время налицо явный кризис рецензирования. Я согласен также с Сергеем, что весьма неэтично писать популярную книжку по теме своей деятельности, не признанной научным сообществом.
«Неортодоксальность», «паранаучность» — походу, многообразие подобных новых научных сущностей скоро обгонит нынешнее гендерное разнообразие ;)
Отнюдь, погуглите, неортодоксальность и паранаучность — это разные, хотя и несколько перекрывающиеся понятия. И они совсем не новые..
Я в науке не первый год, однако с данными терминами доселе не сталкивался — но, это конечно мои проблемы ;)
Я в курсе :) Ну, у вас филд другой, меньше побалуешь :) Ну да, впрочем, попытаюсь объяснить разницу — вот, если бы вам кто сказал, что электроны, например, состоят из клейстера, это паранаука.. а ежели кто скажет, что электроны состоят из каких-нибудь субэлектронов, и сможет построить их теорию, не противоречащую известным фактам — это неортодоксальная гипотеза, которая потом может оказаться и верна.. или не верна :)
Относительно парапонятно, спасибо. Продолжая логику: если кто скажет, что электроны состоят в партии, это политическая наука. Насчёт квазинауки, псевдонауки и антинауки попытаюсь додумать сам ;)
Согласен, термин «паранаука» более удачен. Хотя и здесь не обойтись без личных предпочтений.
Думаю, неплохим признаком является тест на уважение к Уильяму Оккаму.
«Важно отметить, что в космологии, кроме на-
блюдательных данных и теоретических построе-
ний, существенную роль играют метафизические
аргументы. Таким аргументом является принцип
“Бритвы Оккама”: “То, что можно объяснить по-
средством меньшего, не следует выражать посред-
ством большего (Frustra fit per plura quod potest
fieri per pauciora)”. Исходя из этого принципа,
следует считать предпочтительными более простые
модели с меньшим числом свободных параметров. В процессе совершенствования корректной теории часто
объединяются утверждения, считавшиеся прежде
независимыми, тогда как в противном случае вво-
дятся дополнительные постулаты – теория стано-
вится громоздкой и в ней накапливаются внутрен-
ние противоречия.»
Вот мнение GPT-4o насчет неортодоксальных гипотез.
Я: Дай своё определение термину » неортодоксальная гипотеза в науке » и составь список таких гипотез в космологии в текущем тысячелетии на планете Земля.
GPT-4: Вот определение и список по твоему запросу:
Неортодоксальная гипотеза в науке —это научная (или претендующая на научность) концепция, которая нарушает или радикально пересматривает текущий консенсус в своей области, не будучи при этом подтверждённой достаточным числом воспроизводимых наблюдений или экспериментов, и/или не встроенной в доминирующую теоретическую рамку.
Такие гипотезы: могут быть инновационными или маргинальными, вызывают споры и сопротивление, но иногда становятся ядром будущей парадигмы (см. Кун), а иногда — навсегда остаются интеллектуальным курьёзом.
Список неортодоксальных гипотез в космологии XXI века (на Земле)
1. Циклическая или пульсирующая Вселенная — П. Стейнхардт и др.
2. Космология без тёмной материи — Мильгром, Бекенштейн, Моффат.
3. Гравитация как энтропийное или информационное явление — Э. Верлинде и др.
4. Вселенная как голограмма — ’т Хофт, Сасскинд.
5. Тёмная энергия как проявление динамического поля (не Λ, а квинтэссенция)
6. Вселенная — результат квантового перехода из «ничего» — Виленкин, Линде, Хартл-Хокинг и др.
7. Мультивселенная (мультиверс) — Линде, Эверетт, Виленкин, Сасскинд и др.
8. Плазменная космология — Альфвен и последователи (в т.ч. Эрик Лернер).
9. Эмерджентное пространство-время — Л. Смолин, Ф. Марков, К. Кранц, и др.
10. Космология с переменными фундаментальными константами — Дж. Бэрроу, Дж. Магейо и др.
Хочешь — могу разбить список по категориям (философские, альтернативные ΛCDM, псевдонаучные), или выделить наиболее «перспективные» из неортодоксальных.