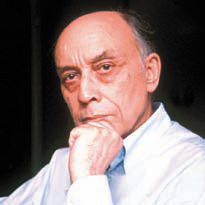
Когда я направлял в редакцию ТрВ-Наука заметку о загадке Льва Гумилёва1, и я, и редакция понимали, что она вызовет, кроме поддержки, шквал возмущенных откликов. Так и произошло — за две недели накопилось более сотни откликов с комментариями в блоге ТрВ2 и других местах. Некоторые просто бранят мою статью — она мерзкая, тон ее недопустимый и т. п. Образ великомученика Льва Гумилёва слишком давно и прочно вошел в сознание целого слоя околонаучных любителей как образ великого ученого. Я полон сочувствия и личного уважения к своему покойному коллеге и не сказал ни единого худого слова в его адрес. Но оценка его как ученого и общественного деятеля — совсем другое дело.
В своей газетной заметке я совершенно не задавался целью опровергнуть его учение, ненаучность которого для подавляющего большинства специалистов — общее место. Я писал об этом подробнее в своей статье 1994 года (там есть и аргументация). Очень детально и доказательно рассматривает этот вопрос Л. А. Мосионжник в большой работе «Исторический миф Л. Н. Гумилёва: технология создания» (Нестор, 14, 2010: 303-344). Моя цель была другая: исходя из очевидности этого положения для специалистов (и не только для специалистов), попытаться высказать некоторые догадки о причинах именно такой направленности его учения, какую оно приобрело, и я рад, что многие читатели правильно уловили эту мою задачу. Не поняли те, кто и не хотел понять.
Некоторые комментаторы останавливаются на том, что в числе неприемлемых для друзей и родных Л. Н. Гумилёва особенностей его характера, причины которых я попытался выявить, я назвал антисемитизм. Для меня антисемитизм некоторых известных деятелей русской культуры есть данность, с которой приходится считаться, и в моем представлении она, умаляя их общую привлекательность, не снимает ни их таланта, ни величины. Для историка, однако, она особенно вредна, так как делает его необъективным. Раньше я считал, что у Л. Н. Гумилёва антисемитские идеи были чисто теоретическими, — так и писал в своей статье 1994 г. Но прочтя сборник воспоминаний о нем 2006 года издания, выпущенный его почитателями, я понял, что, по крайней мере в последние десятилетия своей жизни, он был и бытовым антисемитом. Там об этом достаточно фактов. Мое отношение к учению Гумилёва это не изменило.
Что касается моих догадок о причинах искаженности сознания этого талантливого мыслителя — о функциях Шехеразады, а перед тем о его травмировании пребыванием в низшей касте лагерного сообщества, — то все эти догадки построены не на пустом месте. Они основаны на фактах, параллельно и многократно сообщавшихся как самим Л. Н. Гумилёвым, так и его почитателями. Пусть мои пышущие гневом критики сообщат мне, какие из этих фактов неверны или не допускают предъявленную интерпретацию.
Остается еще ответить на наиболее пространный комментарий — он построен на убеждении, что специалисты по предмету (этносу и т. п.) не могут судить о больших проблемах науки (как этногенез), что тут вправе развертывать свои блестящие идеи мыслитель, свободный от обременительных знаний и правил. И в этом, мол, величие таких ученых, как Л. Н. Гумилёв. Увы, блестящие идеи таких мыслителей строят не науку, а мифы.
Лев Клейн
1 http://trv-science.ru/2011/05/10/zagadka-lva-gumilyova/
2 http://trv-science-ru.livejournal.com/77974.html