
20 февраля в Соединенных Штатах вышла из печати книга покойного профессора Техасского университета в Остине Стивена Вайнберга «Жизнь в физике»1. К сожалению, это издание оказалось посмертным. Как отметил автор в предисловии, датированным 2 июня 2021 года, он задумал ее как первую часть двухтомных мемуаров, содержащую в основном воспоминания о родителях, учебе, работе, семье, многочисленных встречах с друзьями, коллегами и различными знаменитостями, конференциях и путешествиях — в общем, посвященную преимущественно персональным аспектам его биографии. Конечно, в книге немало говорится и о науке, однако с довольно скупым вхождением в детали прославленных исследований автора в теоретической физике и космологии. О них Вайнберг планировал подробно рассказать во втором томе, который, к сожалению, ему не суждено было написать. 23 июля того же года Вайнберг скончался в больнице в Остине в возрасте 88 лет. Насколько мне известно, причины его смерти нигде не сообщались. Возможно, они будут упомянуты в развернутой биографии Вайнберга, над которой сейчас работает научный журналист Грэм Фармело. Только что изданная книга великого физика была скомпонована и отредактирована его вдовой Луизой Вайнберг, почетным профессором права того же университета.
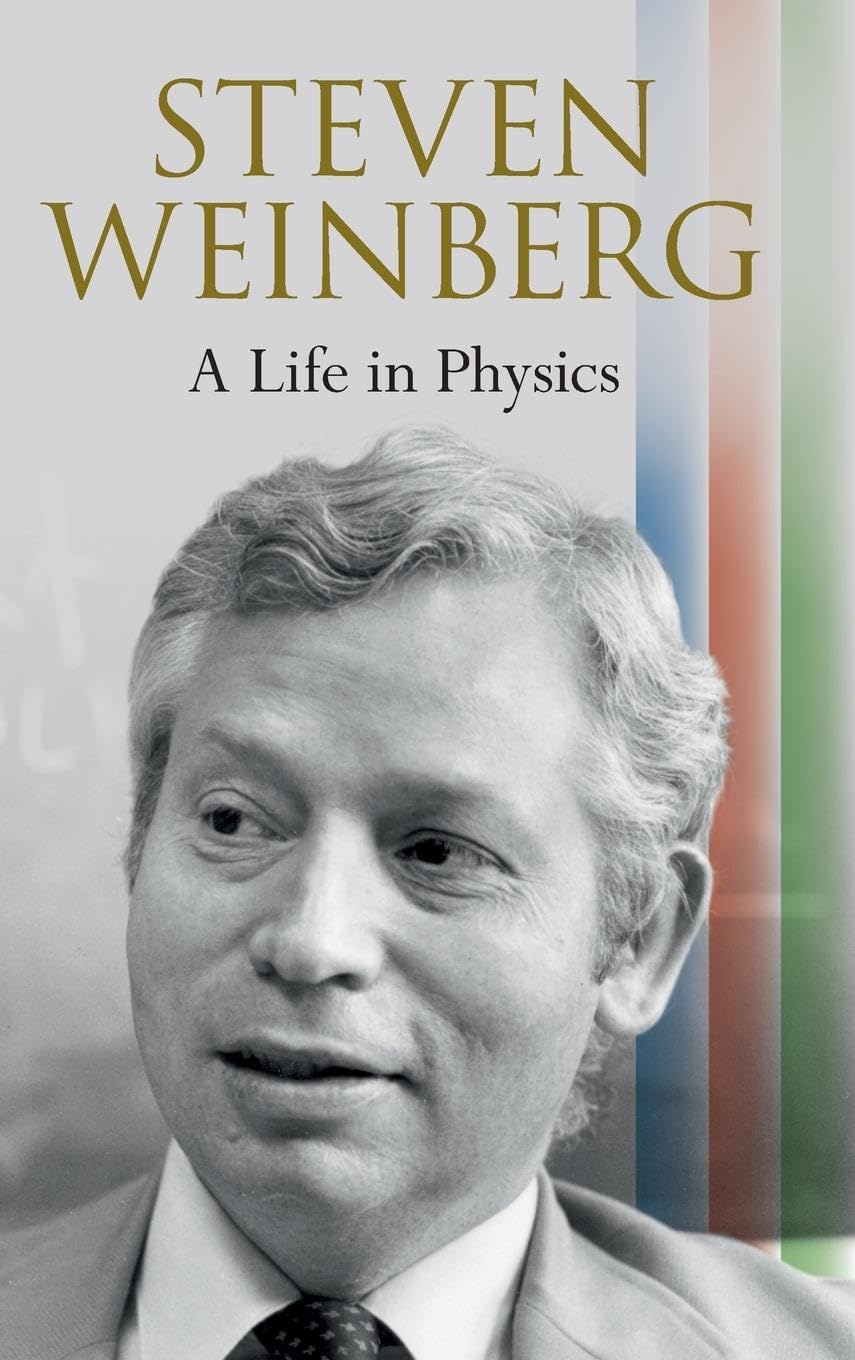 Стивена Вайнберга уж точно не надо представлять аудитории «Троицкого варианта». Крупнейший физик-теоретик, обладатель Нобелевской премии, Национальной медали науки и множества других наград, почетный доктор почти дюжины университетов и колледжей, член Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества, один из создателей Стандартной модели элементарных частиц (а заодно и изобретатель этого термина), автор фундаментальных трудов по квантовой теории поля, квантовой механике, астрофизике и космологии и блестящих учебников аспирантского уровня. Вайнберг также был выдающимся пропагандистом и защитником науки, автором многочисленных книг и статей для массовой аудитории, давно признанных высокой классикой научно-популярной литературы.
Стивена Вайнберга уж точно не надо представлять аудитории «Троицкого варианта». Крупнейший физик-теоретик, обладатель Нобелевской премии, Национальной медали науки и множества других наград, почетный доктор почти дюжины университетов и колледжей, член Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества, один из создателей Стандартной модели элементарных частиц (а заодно и изобретатель этого термина), автор фундаментальных трудов по квантовой теории поля, квантовой механике, астрофизике и космологии и блестящих учебников аспирантского уровня. Вайнберг также был выдающимся пропагандистом и защитником науки, автором многочисленных книг и статей для массовой аудитории, давно признанных высокой классикой научно-популярной литературы.
В 2010-е годы я имел честь дважды интервьюировать Стивена Вайнберга и рецензировать две его книги, включая сборник эссе “To Explain the World: The Discovery of Modern Science” (2015), русский перевод которого в 2017 году выпустило в свет издательство «Альпина нон-фикшн». Полагаю, это дает мне право поделиться своими впечатлениями о «Жизни в физике».
Рецензировать автобиографии — не такое уж простое дело. Возникает естественное искушение, не мудрствуя лукаво, вопроизвести линию жизни автора по его же собственному тексту и снабдить ее своими комментариями. Я мог бы пойти по этому пути — тем более, что книга предоставляет весьма богатый материал. Тогда следовало бы начать с того, что Вайнберг родился в еврейской семье с недавними европейскими корнями. Его дед по отцу после переезда в США из Румынии работал переводчиком в муниципальных судах Нью-Йорка, которым приходилось много заниматься не владеющими английским иммигрантами. По той же стезе пошел и его отец Фредерик, ставший судебным стенографом. Мать Вайнберга Ева Израэль была уроженкой Берлина, но в 1928 году в 19-летнем возрасте вместе с сестрой эмигрировала в США. Их сын Стивен родился в Бронксе 3 мая 1933 года, в самый разгар Великой депрессии. Увлечение доступной в его возрасте литературой по физике, химии и астрономии, разбавленное большими дозами научной фантастики, к началу 1948 года привело его к желанию стать физиком.
В том же году Вайнберг поступил в основанное десятью годами ранее среднее учебное заведение с громким названием Научная школа в Бронксе, которое тогда находилось на пересечении Крестон-авеню и 184-й улицы. В то время программы по точным наукам были довольно архаичными — например, вершиной курса математики была элементарная трехмерная геометрия, под физикой понималось изучение автотехники и радио, а исчисления бесконечно малых не было вовсе. Однако при всем этом школа оказалась чрезвычайно удачной и славной своими выпускниками. Среди них насчитывается восемь лауреатов Нобелевской премии (семеро за исследования по физике и один по химии), столько же лауреатов премии Пулитцера, шестеро получателей Национальной медали науки и в общей сложности 51 член Национальной академии наук США и Национальной академии инженерных наук.
Ближайшими школьными друзьями Вайнберга стали будущие звезды теоретической физики Шелдон (тогда Шелли) Глэшоу и Джеральд (тогда Гэри) Фейнберг. Дальше следовало бы рассказать о высшем образовании Вайнберга (Корнеллский университет, потом Принстон), о его блестящей карьере в Калифорнийском университете в Беркли, Массачусетском технологическом институте и Гарварде и, наконец, о переходе вслед за женой в университет Остина, профессором которого он оставался до самой смерти. Потом кратко упомянуть его небольшую семью (жена Луиза — блестящий юрист, специалист по конституционному праву; единственная дочь Элизабет — врач). Следующим шагом стало бы подробное повествование об исследованиях Вайнберга и прежде всего о созданной им вместе с Глэшоу и пакистанским физиком Абдусом Саламом теорией электрослабых взаимодействий, использующей механизм Хиггса. В качестве дополнительных иллюстраций можно было бы упомянуть две-три особо красивых работы Вайнберга, не связанных с этой теорией. Например, речь могла бы пойти о его статье 1964 года, где на примере безмассовых частиц с единичным спином была выявлена глубокая связь между лоренц-инвариантностью и сохранением заряда, причем вообще без привлечения калибровочной инвариантности. Или о напечатанной спустя 15 лет работе с блестящим анализом феноменологических лагранжианов. Напоследок надо было бы упомянуть его переведенные на русский фундаментальные монографии по теории относительности, космологии и квантовой теории поля, а также многочисленные книги для широкой публики, многие из которых тоже имеются в русских переводах. Этот рассказ для порядка надо было бы предварить хотя бы поверхностным введением в ту область теоретической физики, где столь успешно работал Вайнберг, и закончить рецензию с чувством выполненного долга.
Однако всего этого я делать не буду. Значительная часть информации, о которой говорилось выше, содержится в некрологе Стивена Вайнберга, который я опубликовал2 на портале «Элементы». Разумеется, ее можно найти, причем в куда больших объемах, во множестве других источников, хотя бы в замечательной по ясности и полноте нобелевской речи Вайнберга «Идейные основы единой теории слабых и электромагнитных взаимодействий»3. Вместо этого я постараюсь прокомментировать несколько извлечений из «Жизни в физике», которые в тот текст не вошли, однако, как мне кажется, могут служить ему хорошим дополнением.
Вайнберг и «Ясоны»
Вайнберг не раз упоминает о своей роли в составе группы научных консультантов Пентагона, известной под названием JASON. Он присоединился к ней летом 1960 года и активно участвовал в ее работе как раз в то время, когда создавал теорию электрослабых взаимодействий. Однако постепенно он прервал эти связи после 1972 года, когда опубликовал свою первую монографию “Gravitation and Cosmology” (есть в русском переводе). В своих воспоминаниях он объясняет это недостатком свободного времени, которое с тех пор решено было тратить на работу над новыми книгами, что доставляло ему куда большее удовольствие. По интересному совпадению, именно в 1972 году Вайнберга избрали в Национальную академию наук США, а вскоре он стал профессором Гарварда.
Присоединившись к группе JASON, Вайнберг вошел в очень элитный клуб. Первый шаг к ее созданию сделал Джон Арчибальд Уилер, блестящий физик и космолог, придумавший всем известные термины «черная дыра», «червоточина в пространстве-времени» и «квантовая пена». В 1940–1950-е годы Уилер занимался в основном оборонными проектами, однако находил время и для сотрудничества с Альбертом Эйнштейном в работе над единой теорией поля. Он не только принимал участие в разработке атомного и водородного оружия, но был его ярым пропагандистом, чем в немалой степени огорчал своих более миролюбивых коллег.
Советские успехи в освоении космоса Уилер воспринял как личную трагедию и повод к решительным действиям для укрепления научной базы американской обороны. Он привлек к сотрудничеству будущего нобелевского лауреата по физике Юджина Вигнера и профессора экономики Оскара Моргенштерна, одного из создателей (вместе с Джоном фон Нейманом) теории игр. Вместе с ними Уилер начал пробивать организацию Исследовательской лаборатории национальной безопасности, используя официальные каналы, личные связи и утечки информации в прессе. Вскоре к этой триаде присоединился 36-летний друг Вайнберга Мервин Гольдбергер, тоже известный физик-теоретик, во время войны работавший над ядерными реакторами для Манхэттенского проекта, а в 1970-е годы занявший должность президента Калифорнийского технологического института.
Поначалу руководители Пентагона мало интересовались этими предложениями. Однако идея Уилера не заглохла. Ее подхватили трое калифорнийских физиков — Кеннет Уотсон, Кит Брюкнер и всё тот же Гольдбергер. Все они подрабатывали консультациями для военно-промышленных корпораций и подумывали, не открыть ли для этой цели собственную мини-компанию. Об этом прослышал профессор Колумбийского университета Чарлз Таунс, один из создателей первых квантовых генераторов электромагнитного излучения — мазеров и лазеров. Он не был еще лауреатом Нобелевской премии (пять лет спустя получил ее вместе с Николаем Басовым и Александром Прохоровым), но уже стал признанной знаменитостью. Таунс имел еще одну должность — как раз в 1959 году он согласился на двухлетний срок занять пост вице-президента независимого вашингтонского аналитического центра с красивым названием Институт оборонного анализа (Institute for Defense Analysis, IDA), работавшего под эгидой Массачусетского технологического института. Фактически этот центр был организацией-посредником — военное начальство уровня Объединенного комитета начальников штабов и секретариата министра обороны через него приглашало видных исследователей для экспертной оценки конкретных проектов. Таунс пришел туда из патриотических побуждений (он говорил коллегам, что вашингтонским боссам необходима помощь ученых, без которой могут пострадать интересы страны) и быстро обзавелся весьма высокими знакомствами. Поэтому он смог доложить о намерениях Уотсона и его коллег министру обороны США Нилу Макэлрою, и тот пришел к выводу, что они вполне осуществимы. В результате группа Уотсона получила в качестве первой субсидии 250 тыс. долл. Ее проект, как положено, получил кодовое название — «Восход солнца». Однако калифорнийцам оно не понравилось из-за претенциозности и сомнительных аллюзий, поскольку могло восприниматься как намек на взрыв супербомбы. Тогда-то жена Гольдбергера предложила, чтобы муж и его единомышленники именовали себя «Ясонами» в честь предводителя аргонавтов. Это название триумвират принял без возражений.
Дальше дело пошло без задержек. Уотсон, Брюкнер и Гольдбергер заранее составили список предполагаемых сотрудников своей компании и даже успели ввести в нее тридцатилетнего Марри Гелл-Манна, одного из крупнейших физиков-теоретиков послевоенного поколения, будущего изобретателя (правда, не единственного) Восьмеричного Пути и модели кварков. Вчетвером они кооптировали себя в оргкомитет новой группы. 17 декабря 1959 года в помещении IDA этот квартет провел свое первое заседание, на котором выступил научный советник Белого дома известный физхимик Джордж Кистяковский (в былой жизни сей уроженец города Киева отзывался на имя-отчество Георгий Богданович). Организаторы пригласили еще три десятка первоклассных физиков, которых рассчитывали вовлечь в свою группу. Пришли 22 человека, из которых семеро впоследствии удостоились Нобелевских премий (как и Гелл-Манн).
Хотя история «Ясонов» фактически началась с момента этой встречи, официальным днем их рождения считается 1 января 1960 года. С самого начала структура союза была весьма простой. Во главе его на общественных началах стояли председатель и оргкомитет. Единственным штатным сотрудником был физик Дэвид Кетчер, которого Институт оборонного анализа нанял на должность администратора.
«Ясоны» первого поколения были университетскими профессорами и посему могли уделять дополнительным обязанностям лишь каникулярное время. Ежегодно по весне, обычно в апреле, члены оргкомитета общались с представителями Пентагона, в основном с сотрудниками Управления перспективных исследовательских проектов (Advanced Research Projects Agency, ARPA). На этих встречах они узнавали о нуждах военных, производили первичную селекцию заданий и представляли их на рассмотрение собратьев по обществу. Никакой принудиловки не было — каждый член группы пользовался абсолютным правом выбора темы по своему вкусу (а также мог в любой момент выйти из общества без всяких карьерных и каких-либо иных последствий). В июне и июле «Ясоны» собирались на шестинедельную рабочую сессию. Они принимали участие в брифингах с заказчиками, после чего приступали к работе. Любопытно, что тогда использование компьютеров, мягко говоря, не поощрялось, «Ясоны» должны были полагаться на собственные мозги. Первое лето они провели в Беркли в Радиационной лаборатории имени Лоуренса, второе — в кампусе малоизвестного колледжа в штате Мэн, третье — опять в Беркли, четвертое — в принадлежавшей Национальной академии наук усадьбе на берегу Атлантического океана. Места встреч менялись и в дальнейшем, как-то «Ясоны» даже заседали в опустевшей на каникулы частной школе-пансионе. Собирались они также в ноябре и в начале года, но не более, чем на пару недель.
С самого начала задания были далеко не шуточными. ARPA в те времена изучало возможность создания национальной системы противоракетной обороны — об этом в США задумались за четверть века до рейгановской «Стратегической оборонной инициативы», также известной как «Звездные войны». Эта программа имела кодовое название «Защитник» (Defender) и обходилась в сто с лишним миллионов в год, примерно в половину бюджета ARPA. «Ясонов» попросили подумать, сможет ли нападающая сторона (эта роль, разумеется, отводилась СССР) укрыть запуск боевых ракет от спутников-шпионов с помощью ядерного взрыва, маскирующего тепловое излучение бустерных двигателей. «Ясоны» пришли к заключению, что нужного эффекта можно достичь лишь мультимегатонными взрывами на собственной территории, на что не пойдут даже коммунисты. Другое «предложение к размышлению», связь с подводными лодками на сверхдлинных радиоволнах частотой в десятки герц, опередило свое время, но много позже всё же было реализовано в эксперименте (в 2004 году командование американских ВМФ объявило, что эта программа аннулируется за ненадобностью, поскольку для решения той же задачи имеются более простые и дешевые методы). «Ясоны» занимались также сейсмическим и космическим мониторингом ядерных испытаний. С помощью созданных для этой цели спутников семейства Vela, к которым «Ясоны» также приложили руку, в 1967 году были зарегистрированы вспышки сверхмощного космического гамма-излучения, так называемые гамма-всплески. Это стало крупнейшим астрофизическим открытием.
В середине 1960-х годов «Ясоны» по-настоящему процветали. Их численность оставалась весьма скромной и никогда не превышала четырех десятков. В общество входили блестящие физики среднего и младшего поколений. Кроме Стивена Вайнберга, можно назвать принстонского профессора Вэла Фитча (Нобелевская премия 1980 года), профессора Калифорнийского университета Луиса Альвареса (Нобелевская премия 1968 года), профессора Колумбийского университета Леона Ледермана (Нобелевская премия 1988 года). Еще четыре ныне легендарных гиганта физической науки были неофициальными советниками «Ясонов» — Уилер, Вигнер, Ганс Бете и Эдвард Теллер. В Пентагоне оценили качество «ясоновских» докладов и увеличили их бюджет до полумиллиона. В те годы зарплата американского профессора физики в хорошем университете составляла 12–15 тысяч в год, так что несколько тысяч от ARPA были очень приличной прибавкой.
Однако в конце концов именно эти успехи и стали причиной кризиса, который едва не привел к самороспуску группы. В Пентагоне мало-помалу начали подключать ее членов к решению задач, связанных с набирающей силу войной во Вьетнаме. Начало было скромным. В 1964 году известный физик, а впоследствии и океанограф Уильям Ниренберг (в 1960–1962 годах научный советник генерального секретаря НАТО) выполнил теоретический анализ возможности применения приборов ночного видения для борьбы с партизанами Вьетконга. В августе 1966 года «Ясоны» в сотрудничестве еще с двумя группами гражданских экспертов представили отчет, оценивающий эффективность американских бомбежек Северного Вьетнама. Они сочли, что такая стратегии обречена на неудачу, однако военное командование их не услышало.
Но этим дело не ограничилось. «Ясонам» поручили поразмышлять, как перекрыть «тропу Хо Ши Мина», тайную трассу, по которой с севера через территорию Лаоса на юг Вьетнама перебрасывали солдат и боеприпасы. Ниренберг и его коллеги, задействованные в этом проекте, предложили разбрасывать там электронные датчики, способные обнаружить движение людей и техники и дать сигнал вызова бомбардировочной авиации. Осенью 1966 года руководитель Пентагона Роберт Макнамара изучил и поддержал эти рекомендации, а чуть позже они были одобрены президентом Линдоном Джонсоном.
«Антиинфильтрационный барьер», как его назвали военные, был и в самом деле проложен — правда, не на всей «тропе Хо Ши Мина» и лишь с использованием сенсоров, реагирующих на движение грузовых машин. Считается, что он оказался прототипом всех позднейших систем электронной поддержки сухопутных боевых операций, в том числе и тех, что применялись во время обеих войн в Персидском заливе. Американское командование во Вьетнаме утверждало, что барьер позволил уменьшить интенсивность грузопотоков по тропе на 80%, хотя, по всей вероятности, реальный эффект был много меньше. Как бы то ни было, северяне по прежнему продолжали активные действовия в Южном Вьетнаме.
А над «Ясонами» вскоре разразилась гроза. В апреле 1970 года Комитет за мобилизацию студентов против войны во Вьетнаме обнародовал кое-какие сведения об их деятельности, позаимствованные из похищенных протоколов заседаний трехлетней давности. Фактической информации там было немного, однако вся группа была представлена в очень невыгодном свете. Но это было только началом. 13 июня 1971 года газета The New York Times приступила к публикации прогремевшей на весь мир серии статей, известных как «Документы Пентагона» (The Pentagon Papers). Они представляли собой извлечения 47-томной засекреченной истории американской политики во Вьетнаме, подготовленной еще по распоряжению Макнамары, который к этому времени давно ушел в отставку. Там упоминались и «ясоновские» исследования бомбардировок и электронных барьеров. Хотя имена членов группы не были названы, джинн был выпущен из бутылки.
От «Ясонов» никогда не требовали подписок о неразглашении членства (естественно, что содержание работ полагалось хранить в тайне), но они и сами предпочитали его не афишировать. Теперь это стало невозможным. Быстро всплыли подлинные имена практически всех «Ясонов», и для них наступили неприятные времена. Студенческие протесты, неприкрытая неприязнь коллег в США и за рубежом, обвинения в военных преступлениях и сравнения с «убийцами детей» в нацистских концлагерях — хватало всего. Некоторые члены группы не выдержали давления и предпочли с нею расстаться, сразу или постепенно. К их числу относился и Стивен Вайнберг, который сначала прекратил участие в летних сессиях, а со временем перестал посещать зимние и осенние встречи в Вашингтоне. Правда, группа JASON не была распущена и действует до сих пор, причем примерно половина ее проектов строго засекречена. Но это уже другая история.
Вайнберг воздерживается от описания своих работ для Пентагона, налегая в основном на антураж. Так, в книге он рассказывает, что весной 1961 года «Ясоны» были допущены на флоридскую базу ВМС в Ки-Весте, где участвовали в учениях по борьбе с подводными лодками. Там он провел целый день на борту эсминца, причем в компании Фримена Дайсона. Во время учений надводным кораблям не удалось засечь скрывающиеся в океане субмарины (естественно, американские), так что Вайнберг и его коллеги поняли, что это отнюдь не простая задача. На этом все подробности и кончаются. С другой стороны, на тех же страницах Вайнберг отмечает, что именно в 1961 году он заинтересовался космологией. Он также сообщает, что летом того же года выполнил для «Ясонов» работу, для которой ему пришлось изучить физику плазмы, магнитную гидродинамику, радиолокационные системы «и много чего еще». «Эти практические знания, — пишет Вайнберг, — принесли мне большую пользу как теоретику. Без них я не смог бы в дальнейшем написать книги по астрофизике и космологии».
В 1964 году Вайнберг получил и принял приглашение посетить очередную (двенадцатую) Международную конференцию по физике высоких энергий, которая должна была состояться в августе в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. К тому времени он имел очень высокий допуск к секретной информации, полученный по линии «Ясонов». Поэтому не приходится удивляться, что его посетил агент ЦРУ с двойной просьбой: воздерживаться от неосторожных высказываний и по возвращении поделиться любыми сведениями, которые могли бы представлять интерес для Лэнгли. Вайнберг, по его словам, ответил, что поедет в Россию с женой и дочерью и поэтому в случае необходимости должен иметь право честно заявить, что не имеет никаких связей с разведкой. Докладов и дискуссий на конференции он в книге не комментирует, поскольку, как сам признается, ничего из них не запомнил. Зато прекрасно помнит, что именно в Дубне он впервые встретился с замечательным физиком-теоретиком Сидни Коулманом, с которым потом очень подружился.
Вайнберг наиболее детально упоминает группу JASON в связи с ее летней сессией 1967 года. По его словам, на ней сильно спорили о вьетнамской войне, с которой многие «Ясоны», включая его самого, «не хотели иметь ничего общего». На встрече циркулировали слухи, что влиятельные фигуры в Пентагоне всерьез думают о применении против Северного Вьетнама ядерного оружия. Тогда четверо участников, включая Дайсона и Вайнберга, обсудили между собой эти планы и нашли их с оперативной точки зрения абсолютно бесполезными. Не ограничившись этими дискуссиями, они подготовили и представили по начальству секретный доклад «Тактическое ядерное оружие в Юго-Западной Азии». Позднее из некоторых источников стало известно, что доклад помог убедить американское руководство отказаться от атомных бомбардировок северян — хотя, как пишет Вайнберг, он до сих пор не знает, так ли это было на самом деле.
Стивен Вайнберг и сверхпроводящий суперколлайдер
Четырнадцатую главу книги Вайнберг целиком посвятил своему участию в проекте строительства на территории США сверхмощного ускорителя на встречных пучках, Сверхпроводящего суперколлайдера (Superconducting Super Collider, SSC). Он был задуман как преемник построенного в 1983 году (и остановленнного в 2011-м) Тэватрона, кольцевого ускорителя протонов и антипротонов, позволявшего ускорять частицы до энергии 980 ГэВ. Тэватрон был главной системой Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми (Фермилаба), расположенной в городке Батавия в штате Иллинойс неподалеку от Чикаго. Вплоть до запуска ЦЕРНом (официально в 2008 году, реально на следующий год) в окрестностях Женевы Большого адронного коллайдера Тэватрон был мировым чемпионом по энергии пучков и светимости среди ускорителей этого типа.
В США о преемнике Тэватрона задумались в год его запуска. В июле 1983 года экспертный комитет во главе с деканом физического факультата Стэнфордского университета Стэнли Воджитски рекомендовал Министерству энергетики отказаться от строительства протонного ускорителя в Брукхейвенской национальной лаборатории и приступить к планированию более мощного комплекса, способного стать базой полномасштабных экспериментов по проверке теории электрослабых взаимодействий. Члены министерского Совещательного комитета по физике высоких энергий согласились с этим заключением и предложили для будущего ускорителя название SSC. В декабре глава Министерства энергетики Джон Херрингтон одобрил их рекомендации и запросил Конгресс о разрешении передать этому проекту уже утвержденные ассигнования на Брукхейвенский ускоритель.
Сам Вайнберг тогда уже отказался от профессуры в Гарварде и вслед за женой перебрался в Остин. В 1984 году он включился в продвижение этих планов, что, как он пишет, поглотило немалую часть его жизни в течение следующего десятилетия. В апреле 1986 года проект гигантского коллайдера на 4728 сверхпроводящих магнитах с гелиевым охлаждением, способного разгонять протоны до 20 ТэВ, был в целом готов и в январе следующего года утвержден Рональдом Рейганом. Вайнберг вместе с рядом коллег был приглашен на прием в честь этого события в Розовый сад Белого дома, где удостоился чести стоять рядом с президентом. Он вспоминает, что Рейган выглядел совершенно безразличным к предмету церемонии. Он даже задался вопросом, не началась ли у Рейгана болезнь Альцгеймера много раньше 1994 года, когда она была официально признана.
7 апреля 1987 года Вайнберг вместе с несколькими коллегами успешно защищал проект суперколлайдера перед американскими законодателями. Это произошло на заседании подкомитета Палаты представителей по вопросам энергии, исследований и разработок и одноименнного сенатского подкомитета. В том же месяце Министерство энергетики приступило к поискам места для будущего строительства, в чем ему помогал специально учрежденный совместный комитет Национальной академии наук и Национальной академии инженерных наук, в который вошел и Вайнберг. Первоначальный список, представленный этими комитетами, включал семь участков, но в конечном счете в ноябре 1988 года выбор пал на территорию неподалеку от техасского города Уоксахачи, административного цента округа Эллис, расположенного на северо-востоке штата. После этого объявления губернатор Техаса Уильям Клементс созвал объединенную сессию обеих палат Законодательного собрания, чтобы достойным образом отметить это событие. Вайнберг, которого, разумеется, пригласили, тогда сказал Клементсу, что надеется на продолжение финансирования проекта со стороны Конгресса. Губернатор просил его не беспокоиться, поскольку в кресле спикера Палаты представителей сидит техасский конгрессмен Джим Райт (Джеймс Клод Райт-младший), на постоянную поддержку которого можно положиться. Возможно, так бы и случилось, если бы Райт надолго сохранил свой пост. Однако вскоре его вместе с женой обвинили в коррупции, и поскольку результаты расследования оказались не в его пользу, в июле 1989 года ему пришлось подать в отставку.
Уход Райта в то время не повлиял на финансирование проекта суперколлайдера. В сентябре того же года Конгресс ассигновал на него 276 млн долл., что было вполне приемлемым начальным вложением. К этому времени коллайдер получил директора в лице известного физика-экспериментатора и будущего коллеги Вайнберга по университету Остина Роя Швиттерса. К слову, пятнадцатью годами ранее Швиттерс был участником возглавляемой Бертоном Рихтером группы сотрудников Стэнфордского линейного ускорителя, которая одновременно с командой Сэмюэла Тинга из Массачусетского технологического института в 1974 году открыла J/ψ мезон, первую частицу, имеющую в своем составе очарованные кварки (в данном случае кварк и антикварк). Тогда же при офисе директора был учрежден Комитет по научной политике, где четыре года (1989–1993) активно работал Вайнберг.
Однако как раз в это время стало расти число противников суперколлайдера. Первоначально общая сумма затрат на его сооружение оценивалась в 4,4 млрд долл., потом ее довели до 5 миллиардов. Но к началу 1990-х годов стало ясно, что и этого мало, а сроки запуска коллайдера придется значительно сдвинуть. В обеих палатах Конгресса росло число законодателей, которые считали, что суммы такого масштаба надо тратить на более приземленные цели. Некоторые влиятельные средства массовой информации, включая The New York Times, либо воздерживались от поддержки проекта, либо его резко критиковали. Кроме того, и в США, и в Европе многие полагали, что планируемый в Европе Большой адронный коллайдер по научной результативности не слишком уступит американскому сопернику, но обойдется куда дешевле. Среди лидеров физического сообщества США этот проект тоже не пользовался единодушной поддержкой.
В общем, не приходится удивляться, что в 1992 году Палата представителей проголосовала за прекращение финансирования суперколлайдера. Правда, сенаторы сочли за благо его восстановить, но всё равно было ясно, что проект в опасности. Та же история повторилась и летом 1993 года, что дополнительно ухудшило перспективы суперколлайдера. Ранее Вайнберг и еще несколько физиков встретились с новым вице-президентом Альбертом Гором, который их заверил, что администрация Клинтона не откажет проекту в поддержке. Она и не отказала, но особого рвения при этом не проявила.
Вероятно, сильный удар проекту нанесло обсуждение на Капитолийском холме, где выступили и Вайнберг, и — в качестве его оппонента — мировой авторитет по физике твердого тела, лауреат Нобелевской премии 1977 года Филип Андерсон. Вайнберг упоминает об этом буквально в одной фразе. Я приведу выдержки из их показаний по стенограмме совместного заседания Комитета по проблемам энергии и природных ресурсов и Подкомитета по энергии и водным проектам Комитета по распределению ассигнований Сената Соединенных Штатов 4 августа 1993 года.
Вначале речь Вайнберга:
«Я благодарю председателя за то, что он разрешил мне придти сюда, чтобы выступить на тему cуперколлайдера. Вкратце, это машина для создания новых видов материи — частиц, которые существовали во Вселенной, когда ее возраст составлял приблизительно одну триллионную долю секунды. Энергия, которая для этого потребна, где-то в двадцать раз превышает энергию крупнейших из ныне действующих ускорителей. Именно по этой причине cуперколлайдер должен быть таким большим и дорогостоящим.
Это короткое утверждение на самом деле не вполне справедливо, поскольку сами по себе такие частицы не так уж интересны. Если вы видели один протон, вы видели их все. На самом деле нас интересуют не частицы как таковые, а общие принципы, которые управляют материей, энергией, физическими силами и всем, что только есть во Вселенной.
К середине 1970-х годов мы создали теорию, так называемую Стандартную модель, которая объединяет все известные нам силы и все различные виды материи, которые мы способны наблюдать в наших лабораториях. Мы знаем, что она не может стать последним словом в науке, так как оставляет за кадром чрезвычайно важные вещи, например силу тяготения… Кроме того, известные нам частицы, кварки, электроны и т. д., обладают массой… Однако теория не дает точной информации о том, чему равны их массы. Это один из тех вопросов, на который должны ответить эксперименты на cуперколлайдере.
При всем этом мы видим в современной физике элементарных частиц воплощение наиболее фундаментального уровня науки. Например, сегодня уже можно найти ответы на любые вопросы о том, как работают сверхпроводники. Они будут даны через описание свойств электронов, электромагнитного поля и других относящихся к делу вещей. После этого можно спросить, почему наши объяснения сверхпроводимости справедливы, и получить ответ на основе Стандартной модели и на ее языке…
Но потом вы идете дальше и говорите: хорошо, пусть так, но почему верна сама Стандартная модель? На это мы пока не можем ответить. Мы просто не знаем ответа. Мы находимся на самой границе знания. Мы дошли со своими вопросами до предела и без cуперколлайдера не сможем двинуться дальше».
Как видим, Стивен Вайнберг выступил как очень сильный адвокат SSC. Теперь перейдем к речи прокурора Андерсона:
«В центре моих показаний будет вопрос приоритетов. SSC даст возможность вести исследования в очень ограниченной и узконаправленной области физики. В ее фокусе находятся чрезвычайно крошечные и чрезвычайно энергетичные субсубструктуры того мира, в котором мы живем. Большинство этих субструктур нами уже хорошо понято, причем в весьма точном смысле. Никакие открытия, которые можно будет сделать на SSC, ни на йоту не изменят того, как мы живем и работаем в окружающем мире и что мы о нем думаем. Они не смогут изменить даже наши представления о ядерной физике.
В этой специфической области науки работает, возможно, пара сотен теоретиков (и это, на мой взгляд, слишком много для столь узкого предмета)… и несколько тысяч экспериментаторов. Это куда меньше десяти процентов физиков-исследователей всего мира… И при этом бюджет SSC выглядит поистине исполинским по сравнению с их бюджетами. Неопровержимый факт состоит в том, что специалисты по физике элементарных частиц в среднем финансируются в десять раз щедрее прочих физиков… Так что в этом плане SSC не обеспечивает особо эффективную программу трудоустройства — во всяком случае, для физиков.
Недавно в печати появилось не менее пары книг и много статей, чьи авторы пытаются обосновать право физики элементарных частиц на особый, более фундаментальный статус по сравнению с другими ветвями науки. Уже одно то, что столько специалистов в этой области находят время для литературной работы, может свидетельствовать о том, что в последнее время их наука не добилась серьезного прогресса и что им просто нечем другим заняться.
У сегодняшней науки имеется огромное количество других захватывающих и подлинно фундаментальных проблем, на которые она пытается ответить. Я и многие мои коллеги и единомышленники слишком заняты, чтобы писать о них книги. Например, это вопросы типа: как началась жизнь? Каково происхождение человечества? Как работает наш мозг? Как действует иммунная система? Существует ли научное понимание экономики?
У всех этих вещей есть общая особенность. Они демонстрируют отнюдь не те простейшие свойства материи, которые существуют на уровне элементарных частиц. Напротив, в этих проблемах проявляются различные аспекты сложности материи и энергии, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Что бы ни показали открытия на SSC, они не затронут нашего понимания этих аспектов…
С другой стороны, как мне кажется, будущее принадлежит именно этим проблемам и этим направлениям исследований, а вовсе не продолжению бесконечного регресса в изучении всё более микроскопических субструктур материи. Возможно, нам уже пора подумать о других фундаментальных вопросах, решение которых потребует меньше усилий и меньше затрат».
Через два с половиной месяца после этого заседания Палата представителей покончила с проектом SSC. Сейчас уже нельзя сказать с уверенностью, действительно ли на конгрессменов так подействовали аргументы Андерсона или же они просто прикрыли ими свое нежелание и дальше выделять деньги на техасский суперсинхротрон. К тому же как раз тогда у SSC появился очень дорогостоящий конкурент в лице проекта Международной космической станции, которой, как известно, повезло с финансированием. Правда, не могу не отметить, что даже десять миллиардов долларов, которые, возможно, стали бы ценой открытия бозона Хиггса в Америке, сейчас не выглядят исполинской суммой (тем более, что БАК вместе со всеми расходами на модернизацию, предшествовавшими этому открытию, обошелся в девять с небольшим миллиардов). Впрочем, это уже совсем другая история.
Вайнберг закончил главу о неудавшейся попытке построить в США крупнейший в мире ускоритель на минорной ноте. По его словам, БАК обеспечил лишь порядка трети энергии пучков по сравнению с SSC. Этого хватило для бозона Хиггса, но больше никаких возбуждающих воображение открытий БАК не принес. «Напротив, на SSC можно было надеяться обнаружить проявления суперсимметрии, или темную материю, или даже что-то абсолютно неожиданное. А теперь эти открытия не будут сделаны в течение ближайших десятилетий». Вполне возможно, что в этом он окажется прав. Однако же не будем загадывать.

Цитаты на память
Я уже отмечал, что детальный рассказ о содержании воспоминаний Вайнберга вряд ли имеет смысл. Поэтому закончу обзор его книги, воспользовавшись замечательным способом, предложенным Давидом Самойловым в любимой мною поэме «Струфиан»: «Мы суть ее изложим — то есть представим несколько цитат».
«Мой техасский коллега Вилли Фишлер называет меня отцом эффективной теории поля, и мне в самом деле нравится так думать. Главная идея здесь в том, что квантовая теория поля — это просто один из способов применения различных принципов симметрии и общих принципов квантовой механики… Но даже если такая теория не будет ошибочной, она может оказаться в целом бесполезной. Точнее, она сможет принести пользу только для энергий, сильно уступающих по величине какой-то характерной энергии W».
«Если вы хотите получить теорию гравитации, вам нужно рассмотреть поле тяготения как таковое и не надеяться обнаружить гравитоны в составе других частиц».
«Я пришел к выводу, что лучший путь к преподаванию математики состоит в том, чтобы включать ее в курсы других наук и объяснять ее методы только тогда, когда они в этих курсах понадобятся».
«В начале 1980-х годов я работал над применением нескольких привлекательных спекулятивных идей. Одной из них была суперсимметрия». «Я также занимался теориями тяготения в дополнительных измерениях, которые еще более спекулятивны». «Еще я написал несколько статей по теории струн, которые оказались прямо-таки монументально малозначимыми».
«До того, как теория струн превратится в общепринятую часть физики, может пройти много времени. Мы видели такие задержки и раньше — скажем, на примере теории Янга — Миллса. Но я готов держать пари, что теория струн станет частью окончательного ответа».
«Космологические постоянные, как и вобще законы природы, могут отличаться друг от друга среди различных версий мультивселенной с их различными биг-бэнгами. Антропное мышление не может исключить непредсказуемое разнообразие. Мы сами существуем лишь по чистой случайности. Единственные законы природы, которые объясняют существование человека, — это законы Дарвина».
Так думал и писал Стивен Вайнберг. Запомним это.
Алексей Левин
1 Weinberg S. A Life in Physics. Cambridge University Press, 2025, 253 pages.
2 elementy.ru/novosti_nauki/433845/Pamyati_Stivena_Vaynberga
3 УФН, том. 132, вып. 2, октябрь 1980, с. 201–215.
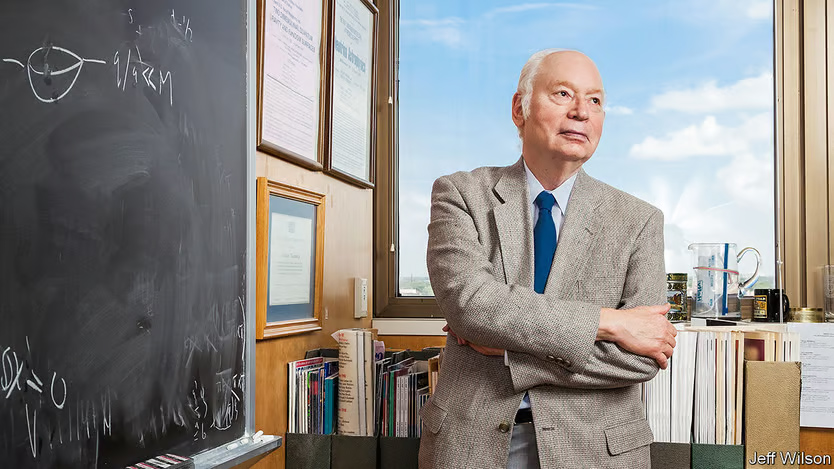
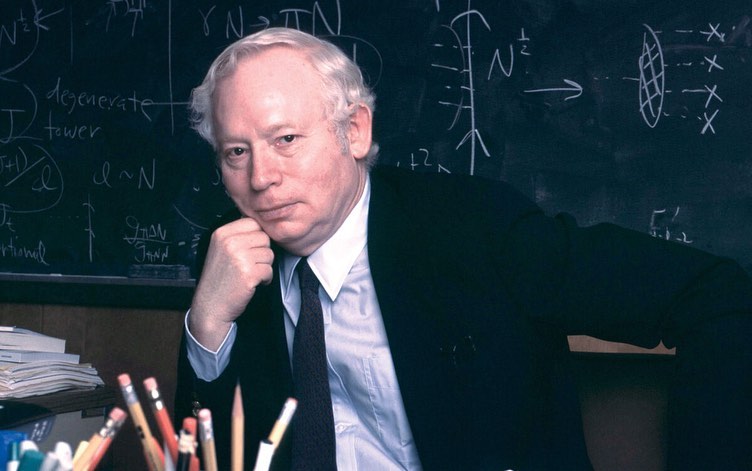


 (4 оценок, среднее: 3,50 из 5)
(4 оценок, среднее: 3,50 из 5)