Публикуем текст памяти Вадима Викторовича Максимова (26.08.1937–14.04.2015), канд. техн. наук, вед. науч. сотр. лаборатории обработки сенсорной информации Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН.
К сожалению, автор текста, Олег Юрьевич Орлов, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. той же лаборатории, скончался 26 декабря 2024 года на 93-м году жизни. Светлая память.
Благодарим Елену Михайловну Максимову, вед. науч. сотр. ИППИ РАН, нашего постоянного автора, за предоставленный текст и фотографии. Планируем опубликовать ее воспоминания о супруге в следующем номере.
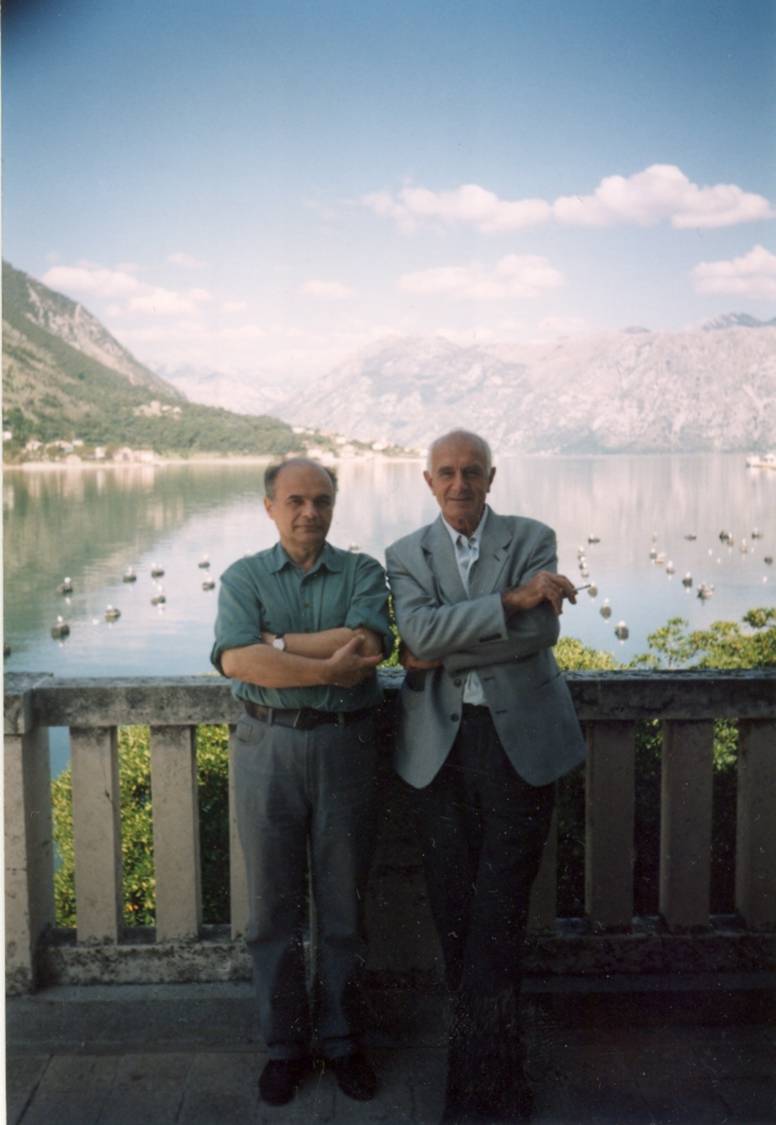
Первое знакомство с перечнем публикаций Вадима Викторовича Максимова должно вызывать законное недоумение его тематическим многообразием. Что общего между кормлением птенцов в дуплянке и компьютерным распознаванием месторождений полезных ископаемых?! Этот человек не принял решения, чем заняться, и берется то за одно дело, то за другое без всякой между ними связи? Этот вопрос отпадает при знакомстве с первыми шагами Максимова в науке, точнее, при знакомстве с тем окружением, в котором он, студент Московского физико-технического института, «человек с головой и руками», оказался в начале своего пути — в лаборатории биофизики зрения Института биофизики АН СССР.
Здесь работали такие уже известные специалисты, как виртуоз эксперимента Альфред Ярбус [1], энтомолог Мазохин-Поршняков [2] и нейрофизиолог Алексей Бызов [3], физик-оптик Михаил Смирнов [4]; но центральными фигурами были, безусловно, два человека: физик Михаил Бонгард и математик, специалист в области цветового зрения, профессор Николай Нюберг. Соотношение их интересов заслуживает разговора само по себе1, но оно играет key role для понимания той линии, которая объединяет все работы Вадима Максимова и объясняет их неочевидную при первом знакомстве общность.
Классическая строгость построений, присущая математику Нюбергу в области цветоведения, привлекла Максимова к цветовому зрению в целом, к теме константности цветовосприятия в особенности и послужила мотивом одной из наиболее значимых его работ [5], где В. В. Максимов является прямым продолжателем новаторской работы Н. Д. Нюберга [6]. Уместно сказать, что сам Нюберг в такой же мере был прямым продолжателем основополагающих работ Гельмгольца, который предельно четко указывал на кардинальную разницу между двумя вещами: различением цвета излучений и предметным зрением, в котором узнавание окраски предметов занимает важное место.
Широко эрудированный в гуманитарной сфере и прекрасно знавший историю живописи, Нюберг неоднократно напоминал нам о том, какое значение придавал великий Гельмгольц феноменам «непроизвольных суждений» (мгновенных, не требующих рассуждений, бессознательных поправок на условия освещения, нужных для узнавания телесных (bodily) окрасок — как на живописных многоцветных изображениях, так и в реальной обстановке, полной теней и цветных рефлексов, затрудняющих узнавание окрасок; как великолепно работает константность цветовосприятия во множестве сложных ситуаций и как легко она отступает (или уступает) в привычном нам мире изображений предметных сцен: в живописи и слайдах «на просвет» (где красками, всегда только поглощающими свет, удается вызвать впечатление даже самосветящегося объекта — свечи или солнца, — и наоборот: по-разному освещая одну и ту же поверхность белого экрана, можно заставить забыть об этом равномерно-белом предмете). Нюбергу, несомненно читавшему Гельмгольца в оригинале, на немецком, была близка и понятна максима этого ученого, повторявшего, что только предметное зрение, а не восприятие света можно называть зрением — мысль о месте нервной интеграции высокого уровня, забытая в эпоху увлечения «строго поставленными» экспериментами с арсеналом технических приборов.
Было бы неверным сказать, что Вадима не привлекали психофизические варианты исследований, но таковых немного. Но при том, что цветовым зрением животных в лаборатории занимались и Мазохин (на насекомых), и Орлов (на амфибиях), никто другой не охватил своим интересом такого широкого круга позвоночных, как В. В. Максимов. Общим для работ этой серии было выяснение окончательного вердикта: способно животное (научиться) различать цвета или же нет? Для этого им изготавливалось вручную множество цветных выкрасок, спектры отражения которых имели нужные показатели возбуждения для известных типов колбочек с их разнообразными кривыми спектральной чувствительности. Среди животных, которые явились предметом его исследований и публикаций, — рыбы, лягушки и жабы, птицы, кошка с собакой и обезьяны. Вадим был непосредственным организатором серии «полевых» экспериментов по константности цветовосприятия у певчих птиц, которые проводились в естественной обстановке.
Совсем иным было место цветового зрения в творческой биографии Бонгарда, автора метода колориметрии замещения [7], метода, буквально открывшего биологам новый мир возможности узнать, «а есть ли цветовое зрение у животного?». Для Бонгарда проблемы цветового зрения были лишь временной, проходной темой, ценность которой состояла прежде всего в безупречной ясности постановки проблем цветового зрения, восходящей к Ньютону, Юнгу и Гельмгольцу, и в возможности так же безупречно четко описывать условия опытов в привычных физику понятиях: источники излучения, их спектральный состав и интенсивность, показатели отражения поверхностей и т. д. Но, безусловно, главным движущим моментом для Бонгарда было амбициозное, с юношеских лет, намерение — узнать, как работает мозг2. Этой цели он следовал непреклонно, вовлекая в круг своих интересов молодых людей, и едва ли не самым ярким последователем Бонгарда на этом поприще был именно Максимов.
Та же константность цветового зрения была для Бонгарда одним из наглядных жестких алгоритмов в арсенале средств, которыми располагает мозг. Тут интересы Нюберга и Бонгарда сходились, и яркость самой темы, как и яркость личностей обоих его учителей, глубоко передались Вадиму и остались для него до конца ведущим и определяющим. Главной же целью Бонгарда было понять, каким арсеналом алгоритмов обеспечивается то проявление мышления/интеллекта, которое Бонгард считал главным: способность находить закономерности и вырабатывать общие правила — «понимать законы природы». Как только у него появился доступ к достаточно мощным компьютерам, он полностью переключился на компьютерное моделирование в этой области. Его первым шагом было сделать программу, придающую машине способность узнавать общие правила, на которых строились серии сравнительно простых математических примеров из двух-трех переменных. Разработка алгоритмов, способных решать зрительные задачи узнавания и классификации фигур, была следующим этапом для Бонгарда. Участие Максимова в этой задаче явилась большой помощью для Бонгарда, а для самого Максимова стало другим, не менее стержневым направлением собственного творческого порыва. Этой теме адресована одна из важнейших первых работ Максимова [8].
Стоит заметить, что в научном коллективе лаборатории эти работы, по своей сути скорее инженерные, нежели естественнонаучные, служили поводом для ожесточенных, поучительных и интересных, очень содержательных споров между Нюбергом и Бонгардом и предметом дискуссий насчет пределов математического (компьютерного) моделирования биологических объектов, в частности мозга и мышления, и кардинальной разницы между способами решения одной и той же задачи машиной и мозгом человека.
Хотя задачи машинного узнавания решалась вне прямой связи с психологией и нейрофизиологией человека или животных, в повседневной жизни коллектива постоянно звучала характерная для той эпохи максима, почти лозунг: «Сетчатка есть часть мозга, выдвинутая на периферию!» (С подтекстом: изучив модель попроще, мы узнаем, как работает и сам мозг!..) Поэтому изучение элементной базы сетчатки (структуры и функций ее нейронов) было постоянным пунктом общей программы работ лаборатории под доминирующим руководством Бызова; вот почему столько работ Максимова посвящено среди прочего казалось бы чисто морфологической теме — мозаике рецепторов сетчатки рыб [9], а целый цикл последних его (и его ближайших коллег и постоянных помощников — жены и сына) работ посвящен микроэлектродным исследованиям ганглиозных клеток сетчатки рыб, в частности дирекционально-чувствительным нервным элементам [10]. Фактически, эта «элементная база» и есть то, с чем имеет дело реальная integrative neurology зрительных центров живых животных; но пониманию того, из чего же складывается эта «интеграция», из каких процедур неизбежно должна она состоять (и что надо искать экспериментатору в мозге животного), станет понятнее, если пройдешь путь ее моделирования. Итогом именно такой работы является компьютерное узнавание сложной картины — плоского изображения объемной реальной сцены, со всеми понятными человеку деталями разных классов (ландшафт, живые обитатели и рукотворные предметы [11].
* * *
Общепринято воздавать должное учителям, с которыми судьба свела человека в начале пути. Реже случается слышать от учителей, как им повезло с учеником. Есть счастливые случаи, когда повезло обеим сторонам. Незаурядный ученик попал в окружение выдающихся учителей, впитал лучшее и сделал важные шаги в ясно понятых им направлениях. Нет, всё это в целом никак не работа по подсказке, не «выполнение разрозненных поручений шефа», а продолжение и развитие замыслов, ставших общими.
…Если не говорить о родителях и о собственном здоровье, утраченных им во время Второй мировой войны, судьба Вадима Максимова сложилась на редкость благополучно.
1. Yarbus A. L. 1967. Eye Movements and Vision. Plenum press, NY, 222 p.
2. Mazokhin-Porshnyakov G. A.1969. Insect Vision. Plenum Press. XIV, 306 p.
3. Бызов А. Л. 1971. Нейрофизиология сетчатки позвоночных. — Руководство по физиологии, физиология зрения. — Л.: Наука. С. 126–149.
4. Смирнов М. С. 1971. Оптика глаза. — Pуководство по физиологии, физиология зрения. — Л.: Наука. С. 37–59.
5. Максимов В. В. Трансформация цвета при изменении освещения. М.: Наука. 1984.
6. См. ранние работы Н. Д. Нюберга о цветовом теле: iitp.ru/ru/about/nuberg
7. Бонгард М. М. 1955. Колориметрия на животных. — ДАН СССР, 103, с. 239–242.
8. Bongard M. 1970. Pattern Recognition. Rochelle Park, N.J.: Hayden Book Co., Spartan Books (на основе книги: Бонгард М. Проблема Узнавания. — М.: Наука, 1967), со ссылками на Максимова.
9. Максимов В. В. Система, обучающаяся классификации геометрических изображений // Сб. «Моделирование обучения и поведения». — М.: Наука, 1975.
10. Podugolnikova T., Maximov V. Analysis of cone — horizontal cell connectivity patterns in the jack Mackerel retina // Iugoslav. Physiol. Pharmacol Acta, 1998, V. 34, № 2, P. 25–333.
11. Максимов В. В., Максимова Е. М., Максимов П. В. Классификация дирекционально-избирательных элементов, регистрируемых в тектуме карася // Сенсорные системы. 2005. Т. 19. № 4. С. 322–335.
12. Guberman S., Maximov V., Pashintsev A. Gestalt and Image Understanding // Gestalt Theory, 2012, Vol. 34, № 2, P. 143–166.
1 Орлов О. Диалоги Бонгарда и Нюберга о построении машинного мышления (1957–1968) // ТрВ-Наука № 419 от 24.12.2024.
2 Публикации ТрВ-Наука о Михаиле Бонгарде: www.trv-science.ru/tag/mihail-bongard/
