
Понедельник, вечер, кафедра русского языка Института лингвистики РГГУ; в 1999 году, когда я только поступил, это еще был факультет теоретической и прикладной лингвистики, и деканом его был Александр Николаевич Барулин (1944–2021). Что неизменным образом происходило по понедельникам вечерами на кафедре? Семинар Григория Ефимовича Крейдлина по невербальной семиотике, куда приглашались все желающие, в том числе интересующиеся с других факультетов, с истфила, например.
Семинар этот ГЕК вел, что называется, «всю жизнь», я не помню ни одного пропуска. Сейчас уже окончательно понятно, что для начинающих лингвистов это время и место становилось бесценным опытом вхождения в культуру научной дискуссии.
Семинар транслировал стилистику девяностых-нулевых: чай-плюшки, шутки-прибаутки, неформальное общение после утомительных пар Шихановича по математике (ГЕК и сам у него учился), с постепенным переходом к обсуждению толкований тех или иных фразеологизмов, содержащих какие-нибудь части тела, например, «работать не покладая рук», «душа ушла в пятки», «упоминать через губу», «делать левой задней» и т. п. Части тела в языке, их концептуализация и репрезентация, а заодно и жестовая культура, сопровождающая речевое общение людей разных культур (не путать с языками жестов у глухонемых!), — всё это составляло сферу интересов ГЕКа, и всё это становилось важной частью нашего интеллектуального рациона питания, причем не только по понедельникам. Почему итальянцы интенсивно размахивают руками во время речи, а скандинавы нет, почему один и тот же жест (вернее, примерно одно и то же движение кистью руки) у нас означает «пока», а у вьетнамцев «иди сюда», наконец, почему американцы могут закинуть ноги на стол, и это не является оскорбительным… и вообще, чем жест отличается от физиологического движения? Обо всём подобном говорилось на семинарах по понедельникам. Мы оказывались в ином мире, в том числе в более просторном мире мировой географии лингвистики. Достаточно вспомнить корифеев: в лидерах — польская лингвистка Анна Вежбицкая, живущая в Австралии («Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики»), затем славистка Ренате Ратмайр из Австрии («Прагматика извинения»), далее китаянка по происхождению, учившаяся в Германии и в итоге ставшая заслуженным отечественным ученым Тань Аошуан, писавшая как в духе строгого формализма («Проблемы скрытой грамматики китайского языка»), так и более человеческим языком («Китайская картина мира»), — все эти ученые, занимавшиеся так называемой «языковой картиной мира», были непременными «гостями семинаров», по крайней мере, их имена звучали, их книги и статьи читались и обсуждались, и в соответствии с этим расширялась и картина мира участников семинара. ГЕКу принадлежит важнейшая роль в этом расширительном эффекте. Будучи лингвистом советской выделки, одним из тех самых «структуральнейших» лингвистов из прозы Стругацких, в своих поздних работах он уже обращался к современной повестке дня: всё та же его излюбленная невербальная семиотика, но уже в гендерном аспекте, и даже с привлечением анализа репрезентации жестов в мировом искусстве (см. «Мужчины и женщины в невербальной коммуникации», где, среди прочего, в последней главе обсуждаются жесты, позы и прочие телесные движения изображенных на полотне да Винчи «Тайная вечеря»).
На наших глазах вышел «Словарь русских жестов», составленный ГЕКом в соавторстве. Стало понятно, что такие вещи бывают, так можно делать! Всякие ковыряния в носу и почесывания за ухом (причем с картинками, показывающими, как это правильно осуществлять) ничем не хуже, чем «хардкорные» штудии вроде формального синтаксиса (Тестелец), или лексической семантики (Апресян), я уже не говорю о зубодробительной компаративистике (Мудрак, Дыбо, Старостины и другие). Курсе на четвертом ГЕК читал всем лингвистам лексикографию, и в качестве экзамена нужно было составить словарную статью, что-то растолковать, прямо «как взрослые».
Главное правило: сложное нужно объяснять через простое. Поиск атомарных сем, языковых примитивов, т. е. таких слов и понятий метаязыка, которые сами уже дальше не толкуются, но, наоборот, составляют кирпичики более сложных словарных толкований и описаний — в этом был особый азарт.
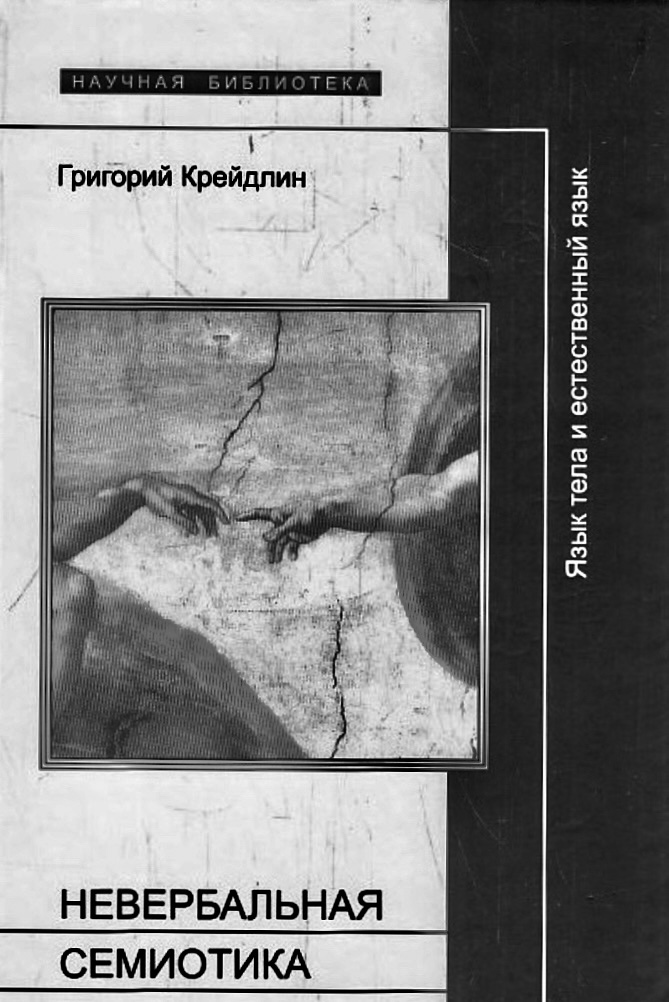 Все эти занятия привели к тому, что двое моих сокурсников (и участников невербального семинара), а ныне уже профессоров, поучаствовали в написании коллективной монографии в двух томах «Язык и семиотика тела» под редакцией ГЕКа.
Все эти занятия привели к тому, что двое моих сокурсников (и участников невербального семинара), а ныне уже профессоров, поучаствовали в написании коллективной монографии в двух томах «Язык и семиотика тела» под редакцией ГЕКа.
Анекдот (точнее, быль), рассказанный ГЕКом на одном из понедельников: нередко во время обсуждений толкований слов в Институте русского языка дело доходило до того, что профессора начинали орать друг на друга, настаивая на своей точке зрения, и кого-то приходилось то ли отпаивать коньяком, то ли требовался валокордин или валидол.
Разумеется, неизменно звучали рассказы о том, как проходят закрытые советы, где защищались диссертации о лексической семантике обсценной лексики. Как известно, для лингвиста нет плохих слов, равно как и нет плохих языков. Сколько лингвистов, столько и лингвистик, сказал нам наш любимый декан Барулин на первой же встрече. ГЕК, безусловно, был примером такого человека со своей лингвистикой. Но дело в том, что тогда все, кто нас учил, были таковыми. «Что ни человек, то личность!» — любила повторять из-под полей своей широкополой шляпы Елена Петровна Буторина, коллега ГЕКа с той же кафедры. Это правда.
ГЕКа любили, даже обожали, он отдавал себя студентам с редкой щедростью. И не только студентам. Во всей той движухе, которую многие лингвисты устраивали для школьников, вроде летних школ и олимпиад, ГЕК всегда принимал самое деятельное участие. Шутник, балагур, иной раз он немного напоминал шаловливого Карлсона, при этом в нужный момент он умел перейти на серьезный тон. Вижу, как он грозит мне пальчиком, читая эту фразу.
И далее я представляю себе, как мы на семинаре пускаемся в дискуссию на тему тона в языке: мол, как это уныло, стандартно и клишировано звучит всегда, например, в некрологах: «ушел из жизни…» или «скончался»… Лексика вроде бы никакая не табуированная, но тема как будто бы табуирована. Но для лингвиста табуированных тем нет, если речь о словах, и мы начинаем громоздить синонимические ряды, смешивать регистры, играть стилями и идиолектами. В чем разница между «склеить ласты» и «отбросить коньки»? «Врезать дуба» и «опочить»? «Сыграть в ящик» и «окочуриться»? Лингвист не властен, не может, да и не обязан, не должен (прочие модальности) менять общественные устои, однако, имея дело со словами, невозможно ими не играть.
Учителя и наставники, сказавшиеся в нас, продолжают говорить с нами ровно тем языком и в той манере, как это и было при жизни, которая не заканчивается, а продолжается и длится тем или иным образом в учениках и последователях и т. д., и это замечательно. Дорогой Григорий Ефимович, спасибо Вам за всё. Низкий поклон.
Александр Беляев, ИКВиА НИУ ВШЭ

Спасибо. На хорошую память