Как-то в шестом классе я случайно забрел в школьный химический кабинет. Учительница почему-то отсутствовала. В помещении было уже довольно темно, но на улице прямо напротив окон класса горел фонарь. Свет от него падал на массу всевозможных стекляшек в шкафах и на столах, многократно отражался от них и замирал в банках с цветными растворами на невидимых в сумраке полках; казалось, они висели в воздухе. Было тихо, и мне представлялось, что я вошел в таинственную пещеру, в которой хотелось бы находиться вечно…
На следующий день на большой перемене я вновь пришел в кабинет. Лаборантка мыла посуду и позволила мне подойти к шкафам и полкам. Меня заворожил вид колбочек, пробирок, чашечек, неизвестных мне стеклянных изделий, разноцветных порошков, таинственных жидкостей… Я смотрел на всё это богатство, чувствовал, что теперь больше всего на свете хочу возиться со всем этим — переливать, мерить, взвешивать, растирать, смешивать, — и понимал, что самое интересное будет еще впереди. Меня с трудом, по младости лет, но приняли в химический кружок, и с тех пор химия, а позднее более широко — наука — вошли в мое существование.
* * *
После защиты диплома меня оставили на кафедре полимерной химии в университете, где я учился. Я сдал вступительные испытания в аспирантуру и уехал в отпуск. Когда я вернулся в начале октября, как и договаривался с руководством кафедры, меня, к сожалению, ждали неприятные новости. Мой предполагаемый руководитель, Алексей Черников, у которого я делал курсовые и дипломную работы, с которым подружился и был на короткой ноге, через три дня уезжал на стажировку в Италию на семь месяцев.
— Не дрейфь, Михаил, — утешил он меня, — сдавай пока кандидатские экзамены и что-нибудь поделай из того, о чем мы говорили раньше. Я наверняка привезу новую тематику, и мы с тобой быстро ее раздраконим. Уверяю тебя, защитишься вовремя. Я буду писать, так что ты не будешь одинок. Тебя будут, конечно, сманивать в другие группы. Стой насмерть, ни к кому не подключайся. Жди моего возвращения.
Я последовал его советам. Сдал экзамен по немецкому языку, который изучал в школе и университете и знал очень прилично. Слегка подготовившись и освежив в памяти термины марксизма-ленинизма, успешно расправился и с философией. Экзамен по специальности мне предложили сдавать академику Медведцову, молодому (50 лет!) заведующему близкой по профилю кафедрой. Народ избегал иметь дело с импульсивным, не управляемым никакими инструкциями членом Академии. Обычно у него не хватало терпения выслушивать известный ему до колик материал, который, заикаясь, доносили до него студенты или аспиранты, и он быстро перебивал их. Дальнейшее же напоминало покер: он мог задать вопрос из какой-нибудь последней статьи и прийти в сильное раздражение, если ее не знали, а мог поделиться последними результатами своей кафедры или впасть в воспоминания о своем студенчестве.
Меня Александр Серафимович Медведцов принял дома в своем кабинете. Он сидел в кресле у громадного письменного стола. Я расположился напротив него в другом кресле. Кабинет был пустынен. Лишь у противоположной стены находился кожаный диван, перед которым стоял столик, заваленный книгами и бумагами, и высокая этажерка в углу, на которой высилась большая пишущая машинка. Очевидно, академик печатал стоя. «Как Хемингуэй», — подумал я, и мне пришла в голову мысль, что в таком кабинете даже я мог бы что-нибудь придумать.
— Так, Михаил Михайлович, — произнес он, разглядывая мой экзаменационный лист. — Как сохраняете научную форму, соблюдаете режим труда и отдыха? Где провели, например, прошлое лето?
Я не стал врать, что корпел над подготовкой к вступительным экзаменам, и честно сознался, что почти всё лето провел с подругой в палатке на берегах небольших речушек, в лесах Владимирской области, где мы ловили рыбу, собирали грибы-ягоды и радовали друг друга.
— Это же берендеевские места, — обрадовался академик, — побродил я там в молодости с ружьишком и удочками. А как же вы ловили рыбу? Помню, там это было не просто, если не браконьерить.
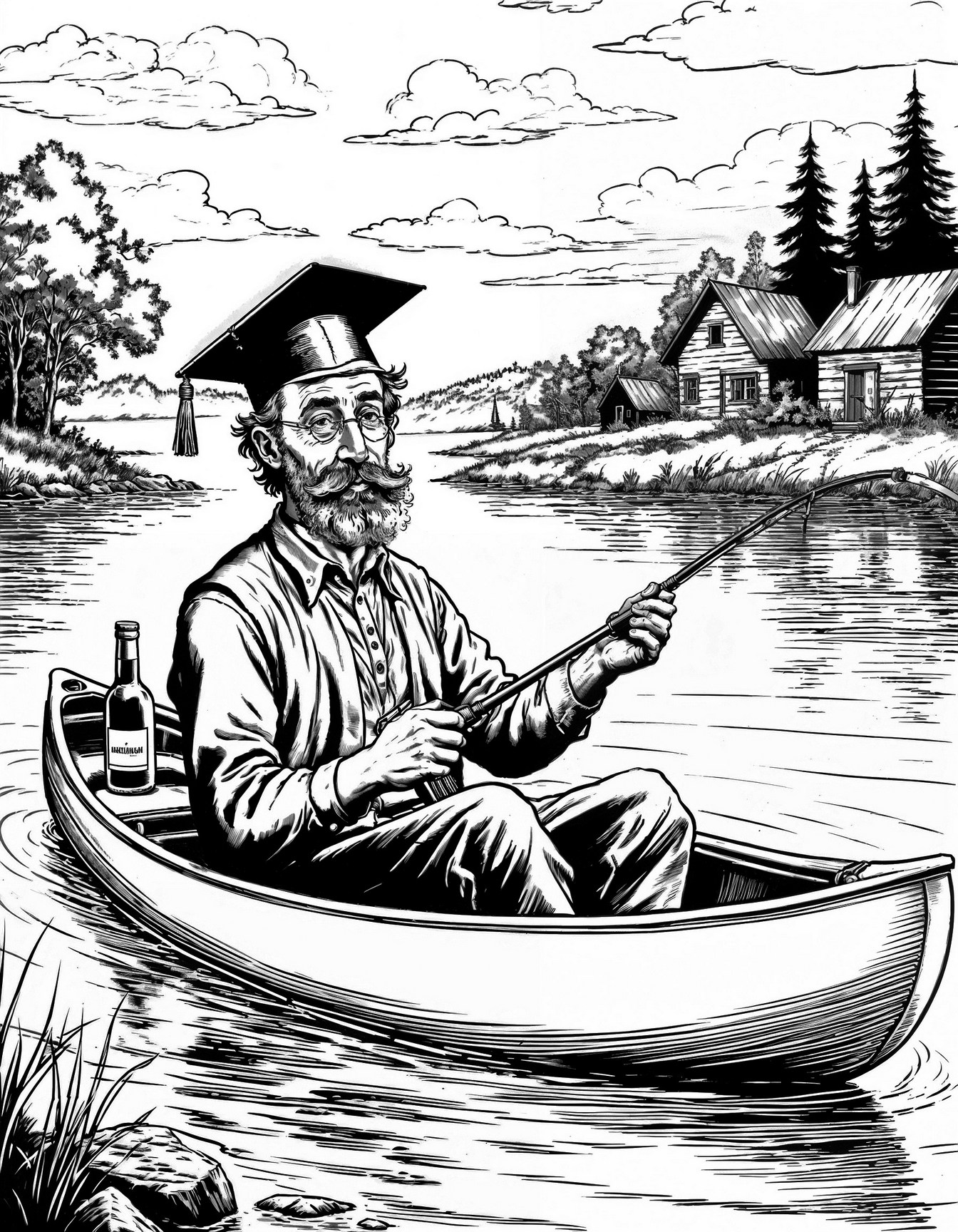
А мы и не браконьерили. В деревне я купил здоровенную корзину, и мы тихонько подходили с ней к заросшей осокой речке, я спускался в воду и подводил корзину к берегу. В это время моя будущая жена Лариса лупила ногой по воде между берегом и корзиной. Я быстро вынимал корзину, стараясь прижать ее к берегу, и замешкавшаяся рыба становилась нашей. Иногда даже попадались маленькие щучки. Однако очень скоро возникла проблема: ноги подруги глубоко изрезала острая осока. Она молчала, не желая меня огорчать, — ей очень нравилось наше уединение. Я же обратил на это внимание только через пару дней. Тогда мы договорились, что она будет «ботать» прямо в сандалиях, а пока раны не зажили, я перешел на ловлю в мелких местах, где много небольших камней, под которыми могла прятаться рыба. Я подкрадывался к камню против течения, подсовывал под него руки с двух сторон и довольно часто вытаскивал рыбку. А в деревнях мы только покупали хлеб и изредка спиртное.
— Интересно, — сказал академик, — спасибо. Что у нас там в первом вопросе? Инициаторы полимеризации. Десяточек назовете?
— Назову штук сорок, Александр Серафимович, — гордо заявил я.
— Хорошо, хорошо, — остановил он меня. Видимо, мысли о природе глубоко угнездились в голове хозяина кабинета. — А как же вы добирались до леса и выбирали места стоянок?
Это было несложно в те времена. Голосовали, останавливали на окраине Москвы какой-нибудь грузовичок, идущий в сторону Владимира, и просили высадить нас в ближайшем симпатичном лесу. А потом переходили с места на место, как древние славяне, когда истощались плодородные места.
— Второй вопрос: условия радикальной полимеризации. Ну, это вы должны знать, вы же у Черникова на кафедре делали диплом. А где же вы еще бывали на каникулах?
— О, я много где бывал…
Следующие минут пятнадцать я рассказывал ему о наших байдарочных походах по Кольскому полуострову, по Полярному Уралу. Академик слушал действительно с интересом, и я распалился и подробно поведал ему, как мы на байдарках сплавлялись в Карское море по порожистой реке Каре. В тот год в поселок в устье реки из-за мощных торосов морским путем не завезли часть продовольствия, в том числе спиртное, что сильно нервировало жителей побережья. И когда пред взорами аборигенов предстали наши пять приближающихся байдарок, то, конечно, они сразу решили, что везут выпивку. С какими еще целями могут плыть люди в их края? Невозможно себе представить, что творилось на берегу, когда мы выгружались. Надеясь обменять их на спирт, люди несли меховые унты, выделанные шкуры животных, тулупы, даже привезли на тележке радиолу. В очереди к нам возникли драки, и ситуация стала настолько опасной, что мы попросили местного начальника и его заместителя прошарить все наши вещи и места в байдарках. Они продемонстрировали очереди всего две литровые бутылки со спиртом, из которых литр мы отдали им, а второй литр — летчикам маленького самолетика, чтобы те переправили нас на большую землю.
Александр Серафимович слушал внимательно.
— Завидую вам. Но перейдем к третьему вопросу. Методы анализа продуктов полимеризации. Кстати, давно хочу наладить изучение полимеризации прямо в ячейке спектрометра. Но для этого нужна цельнопаянная установка из стекла с магнитиками внутри. Не знаю, кто это у нас осилит.
— Александр Серафимович, — воскликнул я, — это вам прекрасно сделает наш стеклодув Саня Малошицкий.
И чуть было не добавил: «за пару литров спирта».
— Минуточку, мне надо записать. Малошицкий Александр — как по батюшке?
Я, конечно не знал и не мог себе представить, как поведет себя стеклодув Саня, назови его по имени-отчеству.
— Ну, хорошо, я узнаю на кафедре. Так вернемся к третьему вопросу. Хорошо знаете методы?..
— Действительно, хорошо знаю, Александр Серафимович, — честно ответил я. — Я не терял времени в дипломный период.
— Не сомневаюсь. Мне говорили о вас, — ответил академик.
* * *
Корреспонденция от Алексея приходила редко, раз в месяц-полтора, хотя, судя по датам на его бумагах, он писал практически каждую неделю. Было такое впечатление, что каждое письмо где-то должно было дозревать определенный срок.
Прошло полгода с его отъезда. За это время я испробовал (правда, безрезультатно) все заделы, о которых мы с ним договаривались. К счастью, до его приезда оставался только месяц. Однако именно в это время я получил от него известие, повергшее меня в состоянии грогги. Он извинялся и сообщал, что его оставляют в Италии еще на год и наше министерство уже дало добро. В этих условиях он посоветовал мне перейти в аспирантуру к профессору Никонову, руководителю крупного секретного отдела в одном из академических институтов, с которым у него было несколько плодотворных научных пересечений. Параллельно он написал обо мне Николаю Николаевичу (так звали руководителя отдела). Через неделю я созвонился с ним и поехал в институт.
У входа в отдел стояла серьезная охрана, и профессор, чтобы не заморачиваться с пропуском, усадил меня прямо на лавочку недалеко от входа. Чувствовалось, что он торопился, поэтому я без подробностей объяснил ему, что у меня уже потеряно полгода, но я готов работать круглосуточно, если он возьмет меня в аспирантуру. По-видимому, Алексей подробно охарактеризовал меня, поэтому вопросы Никонова не касались науки. Он выяснил, что я не москвич, житель подмосковного города Серпухова, жена учится на предпоследнем курсе нашего университета, мы снимаем комнату в Москве. Были также вопросы о моем характере, умении работать в коллективе, наличии допуска к секретным материалам, понимания определенных ограничений. Преданно глядя на него, я давал положительные ответы.
— Ну, хорошо, Михаил, — сказал профессор. — Я не люблю особых церемоний, поэтому буду сразу на «ты». Забирай документы из университета и приноси в наш отдел аспирантуры. Чем быстрее, тем лучше, не теряй времени.
Это я понимал не хуже него и уже назавтра принес документы. Отдел аспирантуры состоял из одной бойкой старушки постпостпенсионного возраста.
— Что это? — спросила она, брезгливо просмотрев документы.
— Мои документы. Просьба о переводе и диплом с отличием, — гордо ответил я.
— Вы понимаете, что из какой-то дыры вы собираетесь перейти в академический институт?
— Почему из дыры? Прекрасный университет…
— Зарубите себе на носу, молодой человек: есть Академия наук и всё прочее. Из всего прочего в Академию не переходят.
— Просто у меня так сложились обстоятельства…
— Наш разговор бессмыслен. Недавно появилось распоряжение Президиума Академии наук, запрещающее переходы в институты нашей системы бог знает откуда. Можете убедиться.
Она положила передо мной какой-то документ.
— А что же мне делать? — спросил я.
— Кинуться в ноги заваспирантурой вашего университета, чтобы они вас восстановили.
Назавтра я с утра был у Никонова. Теперь у меня были необходимые документы для прохода в отдел, он принял меня в кабинете, выслушал и нажал на кнопку какого-то устройства. Послышался голос старухи.
— Наконец-то порядок наводят, дорогой Николай Николаевич! Надеюсь, мы больше не увидим вашего протеже из неоткуда.
Они, похоже, не были на дружеской ноге.
Профессор позвонил в дирекцию института, но и там ответили, что недавно получили распоряжение и ничего сделать не могут.
— Да, брат, самое страшное в этом мире — это чиновник, сидящий задницей на документе. Такого не свернешь. Но попробуем. Поехали.
Мы вышли, сели в его черную «Волгу» и поехали в Президиум Академии, симпатичный особнячок недалеко от Нескучного сада. У входа в те времена не было никакой охраны. Николай Николаевич везде водил меня с собой, возможно, с целью разжалобить чиновников.
Чувствовалось, что в особняке поддерживали традиции старины. Первый марш лестницы, идущей на второй этаж, украшало громадное зеркало, на этом же этаже располагались зал заседания членов Президиума, большой холл перед кабинетом президента и масса мраморных бюстов естествоиспытателей прошлого. Мы, однако, миновали всё это роскошество и поднялись выше, где оказалось несколько комнатушек, которые раньше, очевидно, занимали слуги. В каждой из них сидело несколько женщин в светлых, как правило, одеяниях и мужчина-начальник в темном костюме. Все мужчины радостно вставали при нашем появлении. В зависимости от степени близости моему спутнику то жали руки, то обнимали его, хлопали по спине, называя то Колей, то Николкой, то даже Колюней.
К сожалению, во всех комнатах профессору повторяли, что обойти запрещающее переход распоряжение никак невозможно. То же произошло в клетушках этажом выше. Прощаясь в последней комнатушке, Николай Николаевич спросил:
— Ну, что же мне, к президенту обратиться?
— Бесполезно, — был ответ. — Президент категорически возражал против этого распоряжения, но его уломали в правительстве. Объяснили, что Академия как пылесос высасывает самую способную научную молодежь из вузов. Поэтому сейчас подписать переход будет означать какую-то демонстрацию, на которую, он конечно, не пойдет.
Мы спустились вниз и сели в машину. Я было пригорюнился, но, к моему удивлению, Николай Николаевич не был расстроен. При этом, правда, у меня самого было какое-то странное впечатление, что, отказывая, все эти начальники верили, что их посетитель всё же обойдет этот запрет, желали ему успеха и с интересом гадали, как именно он ухитрится это сделать.
Мы поехали в конец Ленинского проспекта, долго крутились по переулкам и наконец подъехали к скверику, в глубине которого стояло небольшое приплюснутое двухэтажное здание в стиле конструктивизма двадцатых годов. Вход в садик перекрывал шлагбаум, возле которого дежурил старший сержант. Он проверил документ Никонова, козырнул и открыл шлагбаум. Мы подъехали к зданию. На нем не было никаких опознавательных знаков.
— У тебя какой-нибудь документ есть? — спросил профессор.
— Только просроченный студенческий билет, — сконфузился я.
— Тогда сиди в машине. Можешь включить радио. Я возвращусь не скоро, — сказал он и направился к входу. В проеме двери, когда он входил, был виден военнослужащий.
Профессора не было часа полтора. Я сидел и слушал радио, но один раз вышел из машины, чтобы поразмяться и осмотреть хотя бы красивую клумбу в центре дворика. Однако из здания тут же вышел человек в военной форме и движением указательного пальца водворил меня обратно в автомобиль.
Когда Николай Николаевич уселся за руль, в машине запахло спиртным — незнакомым, но очень приятным. Он ничего не сказал. Величие организации, в которой он побывал, не требовало слов.
В Президиуме мы совершили обратные вояжи, начиная с четвертого этажа. Шеф оперировал двумя документами. Он показывал мужчинам какую-то бумагу, они кивали, ставили визу на втором документе и радостно произносили что-нибудь типа «Ну вот, видишь, я был уверен, что так и будет» или «Силен, однако». Решающую визу поставил какой-то большой начальник, сидевший уже на втором этаже. Он обнял Николая Николаевича и засмеялся:
— Великая страна. Суровость распоряжений нивелируется их небрежением.
Заведующая отделом аспирантуры молча взяла бумагу из рук Никонова. Бумага, как я понял, содержала разрешения на мой перевод в порядке исключения. Вторую бумагу я больше не видел и никогда не спрашивал о ней у шефа. Не произнеся ни слова, старушка, которая теперь показалась мне милой бабушкой, что-то вписала в свои кондуиты. Я стал аспирантом, как мне всегда казалось, лучшего института Академии наук.
* * *
Мы договорились встретиться в отделе через три дня. Николай Николаевич обещал познакомить меня с моей непосредственной руководительницей, «микрошефиней», Валентиной Сергеевной. В тот день меня подмывало радостно на одной ножке допрыгать от входа в институт до отдела, но я взял себя в руки и степенно дошел до кабинета шефа. Он был один.
— Ты представляешь, какая история, — огорошил он меня, — позавчера пришли документы, и Валентине Сергеевне вчера пришлось срочно улететь в Швецию на стажировку.
— На семь месяцев? — спросил я.
— Почему на семь, на одиннадцать. Но ты не дрейфь, — повторил он слова Алексея.
Дальше я ждал уверений в том, что Валентина Сергеевна будет мне регулярно писать из Швеции. Но шеф пошел по другому пути.
— Давай-ка я тебе все-таки расскажу, что бы я от тебя хотел. Пока речь идет о дальних подступах, о заделе, о котором я еще никому не говорил. Мне самому, честно говоря, некогда этим заниматься, но расчеты, да и моя чуйка говорят, что дело перспективное.
И он рассказал мне о тогда еще исключительно труднодоступном веществе, на основе которого могла быть создана самая мощная в мире взрывчатка.
— Проблема яйца и курицы. Чтобы заняться этим соединением как следует, дойти до мощного взрывчатого вещества, нужно серьезное финансирование. А чтобы его получить, необходимо солидное обоснование, что это за зверь такой. Я и надеюсь, что ты для начала сможешь найти некий алгоритм, позволяющий относительно просто выяснить место этого вещества среди других близких структур. Или, наоборот, резкое различие. Загони себе в подкорку и размышляй. Может быть, что и сообразишь, — вздохнул профессор.
Я озадаченно молчал.
— Ну, ладно, я еще подумаю, чем тебя занять, пока отсутствует Валентина. Пока познакомься с народом в отделе, послушай, что говорят на коллоквиумах, почитай о методах синтеза взрывчатки.
Мы попрощались. Я был в полной растерянности. В университете я потерял почти семь месяцев, Валентина Сергеевна приедет через одиннадцать. В общей сложности — ровно половина аспирантского срока. Что делать? Оставаться в надежде на чудо? Уехать домой в Серпухов, где у мамы есть квартира, и устроиться инженером на местный завод искусственного волокна? Я был самонадеян, твердо знал, что не пропаду и там. Но мне так хотелось заниматься наукой! Однако меня преследовал некий рок, против которого я, видимо, был бессилен.
В тяжелых раздумьях я, как всегда в сложных ситуациях, пошел развеяться в магазин технической книги на Ленинском проспекте. Я обожал копаться в книгах в секции «Химия». Покупателей там обычно было мало, поэтому продавцы эту секцию недолюбливали и предпочитали там не болтаться, а я любил сесть на подоконник, набрав стопку новых поступлений, и мог часами их листать. Вот и сейчас я нехотя перелистывал новинку — книжку о корреляционных уравнениях. Тогда этим вопросом занималась лишь горстка подвижников. Пролистав ее, я понял, что, грубо говоря, параметры подавляющего большинства соединений соответствуют неким уравнениям, а серьезные отклонения в свойствах приводят к резким выбросам точек на графиках. Электрические сигналы в моем мозгу оживились. Я вернулся к введению, чтобы полнее понять назначение уравнений, и уже подробно прочел некоторые разделы книги. Вдруг всё замечательно уложилось в моей голове. Вот он, алгоритм, о котором говорил Никонов! Если поведение производных этого нового продукта будет удовлетворять уравнениям, то это — обычная структура, на основе которой можно создавать энергоемкие продукты традиционными методами. И, напротив, резкие выбросы точек на графиках будут означать, что это — совершенно уникальное вещество, требующее специальных подходов. Остаток дня я провел в обществе корреляционных уравнений.
Шеф понял меня с полуслова.
— Как ты мыслишь организовать работу? — спросил он.
— Разработать способы получения производных продукта, а затем с помощью электрохимиков и аналитиков определять их соответствие уравнениям. Но, не знаю, Николай Николаевич, будем ждать Валентину Сергеевну?
— Какую Валентину Сергеевну? — расхохотался он. — Завтра же приступай. Вот тебе телефон нашей хозлаборантки, я ее специально прикреплю, чтобы она поначалу снабжала тебя всем необходимым. Если что — сразу ко мне. Ты — молодец. Действуй!
И я начал действовать.
Михаил Михайлов

 (5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
(5 оценок, среднее: 4,80 из 5)