

Органчик, организм, музыкальный инструмент
Даже тот, кто читал Салтыкова-Щедрина только в школе, помнит образ из «Истории одного года» — органчик в съемной голове градоначальника Дементия Варламовича Брудастого: «В прошлом году, зимой, — не помню, какого числа и месяца, — быв разбужен в ночи, отправился я, в сопровождении полицейского десятского, к градоначальнику нашему, Дементию Варламовичу, и, пришед, застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помава́ющим. Обеспамятев от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: „Не удивляйся, но попорченное исправь“. После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий предо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: „разорю!“ и „не потерплю!“. Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие и совсем повыпали. От этого самого господин градоначальник не могли говорить внятно, или же говорили с пропуском букв и слогов» 1.
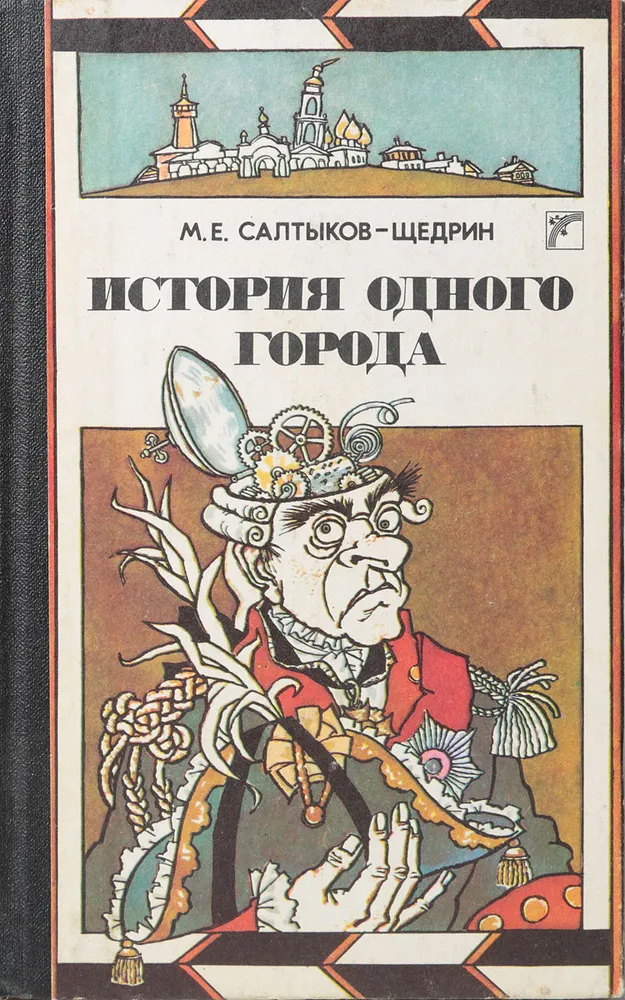
Эта фантазия отсылает и к идее механизма как сочетания органов, каждый из которых выполняет только одну функцию, и к идее органа как любого музыкального инструмента, проигрывателя готовой мелодии. Мы знаем, что романтическая эпоха любила противопоставлять механическое и органическое, механическое как простое сочетание элементов, каждый из которых равен себе, и органическое — как творческое соединение элементов, в котором каждый раскрывает свой талант. Механизм просто работает, а организм дрожит, расцветает, переплескивается через себя живыми реакциями на происходящее. Салтыков-Щедрин как реалист скептически относится к этому романтическому разделению: организм это или механизм, а социальные эффекты оказываются одними и теми же.
Органчик, искусственная голова, произносящая «Не потерплю!» и «Разорю!», — это не просто шарманка. В этой голове есть спонтанность, неожиданное срабатывание — нельзя сказать, что бюрократ так уж непосредственно реагирует на раздражение. Скорее это система отсроченных реакций. Внешне поведение градоначальника напоминает то, что сейчас называют «менеджментом чайки»: налететь, обругать исполнителей и заставить их работать лучше. Но такое сочетание импровизации и произвола напомнит нам как раз о романтической идее органического государства.
Еще до становления государственного устройства индивидуальное тело отталкивало тело социальное, как сообщает нам сказка африканского народа гурманче: «Когда рот умер, у других частей тела спросили, которая из них возьмется за погребение» 2. Разъединенность и разнородность органов обретало единство в установлении государства, и романтики слишком поспешно поверили в это единство.
Органическое государство, замкнутое, не реагирующее на раздражения прямо, но умеющее поддерживать свои правовые и экономические институты, было мечтой многих немецких романтиков. Скупому и слишком гладкому, как механизма Декарта, государству Наполеона с его лаконичным Гражданским кодексом немецкие романтики противопоставляли органическое право, прямо вытекающее из местных немецких условий и местных способов хозяйствования. Фихте мечтал о замкнутом торговом государстве, которое не тратится на выяснение отношений с соседями, но рассчитывает, какие именно институты, какие отрасли промышленности и сельского хозяйства развивать. Это замкнутое торговое государство органично: оно развивается, расцветает, растет как здоровый и полный сил организм. Оно отличается от французской механики экспансии, где везде насаждаются одни и те же порядки, и Наполеон и в Египте, и в России видит только зеркало своей славы, механическое воспроизведение его собственного облика, а не органический рост самосознания его народа.

Можно много говорить о Фихте, но наш главный герой — Новалис. Именно он изобрел слово «романтика», понимая его как науку, науку жить как в романе, по образцу слова «физика» — наука о жизни в природе. Быть романтиком означало познать законы романа, которым является и вся наша жизнь, и вся мировая история. В опубликованном посмертно романе «Генрих фон Офтердинген», созданном около 1800 года, Новалис дает мистическое обоснование монархии как поэтического искусства и одновременно своеобразной режиссуры, дирижирования органическим и неорганическим миром. Противоположность организма и механизма снимается монархом (он же жрец, он же законодатель), который не ставит никаких границ, как это делали настоящие древние жрецы и законодатели. Напротив, он размывает границы между миром растений, миром животных и миром людей, он заставляет всех жить по поэтическим законам, пока его пророчества, его песни, его направляющие слова звучат, сама природа развивается и развивается государство, как цветок, лелеемый природой: «В старые времена вся природа была, вероятно, более живой и восприимчивой, чем в наше время. Многое, что теперь, кажется, едва замечают даже звери и что чувствуют и с наслаждением воспринимают только люди, в то время ощущалось даже бездушными предметами; поэтому люди, обладавшие высоким художественным даром, создавали тогда много такого, что нам теперь кажется невероятным и сказочным. Так, в древние времена, в пределах теперешнего греческого государства, как нам рассказывали путешественники, слышавшие еще там эти предания в простом народе, были поэты, пробуждавшие дивными звуками волшебных инструментов тайную жизнь лесов, духов, спрятанных в стволах деревьев; они оживляли мертвые семена растений в диких местностях и создавали там цветущие сады, укрощали зверей, смягчали нравы дикарей, вызывали в них кроткие чувства, насаждали мирные искусства, превращали стремительные потоки в тихие воды и даже увлекали мертвые камни в стройные движения мерного танца. Говорят, они были одновременно прорицателями и жрецами, законодателями и врачами: своим волшебством они вызывали высшие существа, которые открывали им тайны грядущего, гармонию и естественный строй всего земного, а также свойства и целебные силы чисел, растений и всех существ»3.
Указ как дирижерская палочка
Мы бы назвали таких монархов модераторами, вряд ли дирижерами. Во времена Новалиса еще не было дирижерской палочки, ее применил в 1810 году Людвиг Шпор, сначала просто скатав лист бумаги. Шпор был противником заучивания партий наизусть, считая, что в музыке должно быть место импровизации. Он выходил к оркестру как просвещенный законодатель, который нес в руке свиток, регулирующий жизнь людей. Здесь разграничение механического и органического уже было: органично чувствовать музыку, ее не надо воспроизводить механически. Но механизм дирижерской палочки выглядел уж очень соблазнительно, и, например, Гоголь приписал Пушкину такое рассуждение: «Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполненьем закона недалеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуды не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрыпка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, „верховодец верховного согласья!“»4.
Итак, получается, что органическая импровизация инструментов может привести к ошибкам, а дирижер аккуратно исправляет ошибки, предостерегает от увлечений. Пушкин в изложении Гоголя противопоставляет однократному учреждению демократических институтов в США импровизацию, иногда рискованную, а дирижер для него — некоторая фигура милости, щедрости, которая и позволяет механизму стать как организм, а организму превратиться в общий источник милости. При этом монарх оказывается распорядителем автомата, только в субъективном мнении каждого отдельного государственного деятеля он сам органичен, а не механичен. Гоголь далеко уже ушел от Новалиса — органическое для него не объективно, а субъективно, и он рассчитывает только на милость монарха как животворную, как содержащую те эффекты письма (например, указов), которые и создают норму милости. Монарх для него — инженер и ритор одновременно.
Как и Гоголь, мыслил Одоевский в сказке «Городок в табакерке» (1834), написанной примерно тогда же, когда Гоголь мог услышать и по-своему пересказать рассуждение Пушкина. Только во сне молоточки и валик чувствуют себя организмами, на самом деле они — механизмы. У Одоевского, конечно, отец мальчика — метафора монарха: он может объяснить, как устроена шкатулка, со временем, а значит, может чинить и регулировать государственную шкатулку. Здесь государственничество подчинено философии времени.

Салтыков-Щедрин показывает мир Одного Города, где нет инженерного дела, потому что глуповцы и так довольны жизнью, но нет и риторики, потому что с самого начала люди принимают свою судьбу как должную. Как только инженерное и риторское дело исчезли, романтический образ монарха превращается в реалистическую карикатуру на средней руки бюрократа. Он как бы погружает весь город в единый сон, где все видят перед собой губернатора, а на самом деле работает механический органчик. Даже когда он ломается и говорит «плю» вместо «не потерплю», сон не прекращается, прекращается только функционирование этого замкнутого торгового государства. Идеальному государству Фихте и Новалиса снится сон во сне, завораживающий и неподвижный.
Но всегда ли романтический сон такой? Капельмейстер как персонаж встречается в сказках Гофмана. Он вершит и манипулирует, указует. Так, архивариус Линдгорст показывает Ансельму любимый напиток капельмейстера Иоганнеса Крейслера: «зажженный арак, в который бросили немножко сахара», и испробовав напиток, Ансельм видит Атлантиду, совершенную страну.
Не значит ли это, что уже романтики понимали, что без благодарной чаши, без голубоглазого пунша друзей невозможно совершенное управление? Вместе видя сон, грезя наяву, романтики становились не утопистами, в чем обычно обвиняют декабристов и других мечтателей, а напротив, авторами вполне разумных проектов, в которых нет ничего от духа Органчика.
Но мой сурок со мной

Государство как коллективная телесность являет собой силу в цельности, единстве. Но сколько междоусобных войн было в истории любой страны! Каждая часть как равнозначный субъект государственного тела несет в себе федеративные или унитарные принципы существования, и только тела близнецов напоминают конфедерацию. В «Сказках для вундеркиндов» Сигизмунда Кржижановского, сочиненных в 1920-е годы, одними из героев были «сбежавшие пальцы» пианиста Генриха Дорна. Это от природы холеные пальцы, привыкшие к слоновой кости концертных роялей. Таково было их положение в единстве организма. Однако, сбежав, они обрекли себя на грязь, скитальчество и отсутствие защиты: «Моросил дождь. Нужно было позаботиться о ночлеге. Пальцы, макая свою белую и тонкую кожу в лужи и канавы, медленно побрели, то спотыкаясь, то скользя вдоль мостовой»5. Так оказалось, что социальная жизнь государства не всегда благодарна, даже самая виртуозная игра пальцев может столкнуться с нищетой и неблагодарностью.
Противоположный этому образ закона благодарности в мире Кржижановского — эльф, который жил внутри виолончельной коробки и благодарил хозяина новыми мелодиями, записанными карандашом на нотной партитуре поутру за предоставленное жилье. Господин Флюэхтен приобрел благодаря эльфу имя в музыкальном мире и состояние. Успешные концерты в исполнении Флюэхтена восполнялись множеством цветов от поклонников и слушателей. Цветы любил эльф, огни напоминали ему о доме. Благодарность — это и есть быть у себя дома. Именно это бытие настоящее, а концерт, даже самый слаженный и успешный в государстве — только средство, которое не должно становиться целью.

Все мы помним песню Бетховена о Шарманщике и Сурке. История, как Сурок тянул жребии для всех граждан, повторяется песенным алгоритмом шарманки. Частные судьбы людей на бумажках в коробке Сурка встроены в механизм государства, коробка стоит на шарманке. Шарманка — это программируемый инструмент, и весь XVIII век школьная метафизика пытался создать общий код для философии, Лейбниц искал общий язык для всего человечества, с записью иероглифами, напоминающими иголки и дорожки шарманки.
Но шарманщик у Бетховена кочует — это главное! Государство по своей природе должно быть не органическим или механическим, а кочующим государством. Всюду, куда прибывал очно или письмами просвещенный Лейбниц, советник Петра I, там он и налаживал государство. И в этом налаживании нужно как странник прийти к себе домой, в дом своего зрения. Странничество в свое же зрение, за пределы занавесей сна — таков подлинный романтизм.
Самосознание и самоосознание — это не только зеркальное отражение, рефлексия, совесть, это, вспоминая песню Высоцкого «Як-истребитель», «тот, который во мне живет». В одном из фантастических рассказов Кржижановского зрачок и есть зеркало. В чужом зрачке живет «крохотный человечек», «умаленное подобие» глядящего — и рассказывает ему, кого встретил внутри. Самосознание народа как самоосознание себя — момент групповой (коллективной) или индивидуальной (персональной) идентификации. В зрачке каждого живого, глядящего на мир гражданина живет «умаленная копия» тирана дирижера. Нужно только вовремя его заметить, не отводя глаз, прийти смело к нему и поговорить — и тогда возникает настоящее гражданское действие.
Александр Марков, профессор РГГУ
Оксана Штайн (Братина), доцент УрФУ
1 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20 томах. Т. 8. — М.: Худ. лит-ра, 1969.
2 Чеснов Я. В. Лекции по исторической этнологии. — М.: Гардарика, 1998. С. 323.
3 Новалис. Гейнрих фон Офтердинген / Проза в пер. Зин. Венгеровой, стихи в пер. Вас. Вас. Гиппиуса. — Петроград: Гос. изд-во, 1922 («Всемирная литература»).
4 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. Статьи. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 253.
5 Кржижановский С. Д. Чужая тема. Собр. соч. Т. 1. — СПб.: Симпозиум, 2001. С. 76.

 (5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
(5 оценок, среднее: 4,80 из 5)