
Какой бы наукой мы ни занимались, мы знаем, что формулы, схемы и картинки облегчают нам работу. При этом насколько велико реальное влияние таких способов формулирования идей на дальнейшее движение мысли, мы часто выясняем уже по ходу дела: трудно сразу сказать, в какой мере та или иная схема, рисунок или запись спровоцировали возникновение нового направления в науке — иначе бы мы сразу научили дизайнеров содействовать научному прогрессу. Книга британского искусствоведа Майкла Баксандалла (1933–2008) говорит как раз о значении схем для интеллекта, в том числе интеллекта живописца.
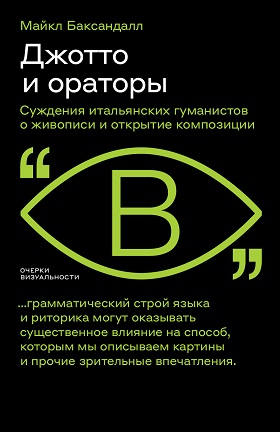
Говорить о Баксандалле непросто: он изучал разные явления в искусстве — от раннего Ренессанса до китча ХХ века. Его главная мысль может быть обозначена так: искусство рождается из интуиций, повторяющихся «интенций», способов ориентирования в пространстве, — но развивает оно не интуицию, а интеллектуальные навыки современников. Искусство предстает формотворческим взрывом, после которого нам остаются разрозненные смыслы, соединяемые в единое целое интеллектуалами, — и тогда искусство может вдохновить и биологов или математиков.
Подход Баксандалла в чем-то противоположен «икологии» Аби Варбурга и Эрвина Панофски, у которых образы работают как капсулы смыслов, в нужный момент раскрывающиеся новыми способами рационального осмысления происходящего. У него никаких готовых смыслов нет, есть только совместная работа интеллектуалов. Поэтому если Варбург и Панофски, изучая Итальянское Возрождение, обращали внимание на ключевые фигуры (рассказывая, например, как Тициан использует популярные изложения Овидия и вдохновляется тогдашним «китчем»), то при чтении Баксандалла мы встречаем множество почтенных, но неизвестных широкому читателю имен — грамматиков, ораторов, филологов, политиков, которые трудились ради единой цели. Хотя если с чем и сравнивать эту книгу, то с трудом Панофски «Идея», где мастер теории показал, как благодаря читателям и почитателям Платона «идея» в эпоху Возрождения превратилась из простого намерения или мысленного образа перед глазами («у меня есть идея погулять») в концепт (мы уже говорим о «режиссерской идее»).
Книга «Джотто и ораторы» вышла на английском больше полувека назад, в 1971 году. Название не должно обманывать: Джотто появляется только в самом конце книги — Баксандалл любил, чтобы ключ был на последних страницах, как в детективе. И, опять-таки как в хорошем детективе, общее видение ситуации меняется на глазах по ходу сюжета. В первой половине нам кажется, что Баксандалл — гегельянец, уж слишком у него всё просто. Есть тезис — это линия скептического отношения к изобразительному искусству, от поэта Франческо Петрарки до канцлера Флоренции Леонардо Бруни. Для них статуи — ненужная роскошь, в живописи много суеты, яркость красок указывает больше на избыточное потребление, чем на жизнеподобие. Есть антитезис: в Италию прибывают из Константинополя греки, такие как Мануил Хрисолора́, обучают новое поколение гуманистов, таких как Гуарини, и у них искусство — это живая жизнь в ее скромных радостях. Они пишут экфрасисы, т. е. оживляющие рассказы по картинам, и способствуют рассмотрению живописи как части литературы, серьезного занятия образованных людей. Наконец, синтез осуществляет самый критически мыслящий из всех итальянских гуманистов, Лоренцо Валла, который вводит понятие об «уместности»: роскошь красок может быть неуместной, а может быть уместной, просто надо с умом создавать канон лучших произведений. Гегелевская схема «тезис — антитезис — синтез» вмещает всю историю профессионализации живописи в этот исторический период.

Но уже в первой части книги то здесь, то там проступает другой сюжет, готовый прорваться наружу: сюжет «хрий» — того, что мы сейчас называем «школьным сочинением». Итальянские гуманисты, не желая произносить судебные речи, но стремясь очаровывать властителей, создавали идеальный стиль таких сочинений. Но мы знаем, что школьное сочинение — это composition, композиция. И вот Баксандалл доказывает, что наше привычное восприятие живописи, когда мы, в отличие от античных зрителей, видим не только правдоподобие и жизнеподобие, но передний план, задний план, размещение фигур — результат воздействия культуры хрий на художников.
Ключевой фигурой здесь стал Леон Баттиста Альберти (1404–1472), архитектор и педагог, создатель учения о живописной перспективе и усложненной криптографии. Объединяло все его интересы представление, что природные задатки есть в каждом человеке, нужно только их развить с помощью кодов, шифров и образцов, попутно облегчая жизнь: построив горизонтальный «идеальный город», где всем будет легко общаться и совещаться, а значит — развиваться интеллектуально. Художники для Альберти — просто те, кто быстрее других развили свои задатки. И вдруг оказывается, что все эти тезисы, антитезисы и синтезы были не так важны, как переход Альберти на личности, умение встать на сторону потребителя, ценителя мастерства, для которого прямая перспектива нужна затем, что облегчает знакомство с разными предметами и тем самым создает идеальное «школьное сочинение» и идеальные впечатления от него. «Альберти подходит к творчеству Джотто так, как если бы оно было периодическим предложением у Цицерона или Леонардо Бруни, и с помощью своей новой влиятельной модели он мог подвергать живопись удивительно строгому функциональному анализу», — вот и ключ к названию книги. Смешав грамматику и эстетику, вооруженного кистью живописца и одаренного словом комментатора, Альберти и создал новое представление о художнике как об «авторе», который сам выстраивает композицию. А отсюда еще шаг — и будет наука Нового времени с ее «авторскими» экспериментами.
В книгу включен также перевод эссе итальянского культуролога Карло Гинзбурга о Баксандалле, где он говорит, что не только Альберти разбирал Джотто, но и в чем-то Джотто «разбирал» Альберти. Джотто, современник Данте, мыслил в духе Данте, понимая тень как присутствие души на том свете, развивая искусство перспективы как место, в котором тени становятся реальными. Тогда как современники Альберти стали понимать тень как «оттенок», как живописную ценность, позволявшую превозносить искусство живописи.
Отдельно нужно отметить работу блестящего переводчика с латыни Анастасии Золотухиной, передавшей объемные и изощренные тексты, которые Баксандалл цитирует в оригинале.
Александр Марков, профессор РГГУ


