
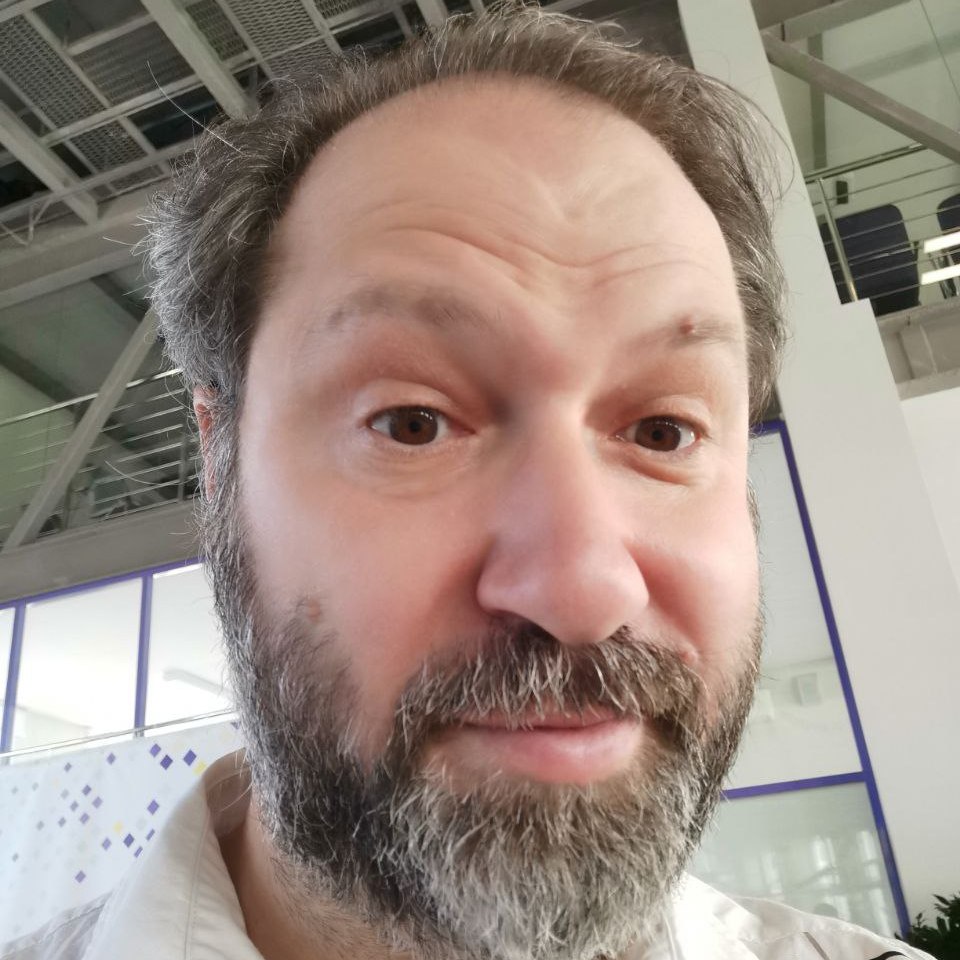
Появление героя
Есть парадокс истории литературы. В реальной жизни народов развитие поэзии непрерывно, так как это довольно простая форма высказывания, как и танец, — невозможно представить время жизни какого-либо народа без танцев. Тогда как проза возникает в ответ на различные вызовы, когда вообще есть возможность ее сохранять и распространять, и требует особых правил производства, например, досуга для сбора сведений. Поэзия как будто всегда хранит свободу народа, тогда как к прозе обращаются, когда нужно систематизировать знания или действовать в более сложной обстановке, чем раньше, — тогда создается громоздкая инфраструктура письма, переписывания, упорядочивания и конспектирования.
Но историки литературы, когда описывают яркие культурные периоды, наоборот, изображают развитие прозы непрерывным, а поэзии — прерывистым. Историки литературы пишут, что в Византии за много веков мы встречаем почти только церковных гимнографов и эпиграмматистов, т. е. представителей практически ориентированной поэзии, а в итальянском Кватроченто не появилось нового Петрарки. Равно как все опыты описания современной литературы в любой стране — в основном описание эволюции прозы, ажиотажа вокруг романов, а не вокруг поэтических книг.
Каков внутренний механизм, приводящий к таким результатам? Способ писать историю складывается в историзме XIX века, где культурная деятельность понимается как постоянный подрыв прежней идентичности: культура начинается как подрыв первоначального природного состояния. В этом смысле «наивная поэзия», о которой вслед за Шиллером говорил Гегель, — вовсе не продолжение природы, но обретение первичного суверенитета. В «Лекциях по эстетике» Гегель уподобляет наивному поэту героическую личность: «Герои же — это индивиды, которые по самостоятельности своего характера и своей воли берут на себя бремя всего действия, и даже если они осуществляют требования права и справедливости, последние представляются делом их индивидуального произвола» 1. Гегель явно даже завидует первым законодателям, которые могли творчески создавать свои государства, не оглядываясь на какие-либо обязательства перед группами людей или на внушенные воспитанием предрассудки.
Немецкий оригинал гораздо более выразителен, слову «самостоятельность» соответствует Selbstständigkeit, слово, которое в современном немецком языке означает также «самозанятость», индивидуальное предпринимательство, и, конечно, связано в том числе с проектом Фихте о создании суверенного торгового государства. Тогда как «воле» отвечает Willkür, слово, несущее в себе проблематику начатых Лютером споров о свободе воли. Настоящий смысл этому слову придал Кант, наделивший свободный выбор моментами чувственности, оценки и признания эффективности:
«Das Begehrungsvermögen nach Begriffen, sofern der Bestimmungsgrund desselben zur Handlung in ihm selbst, nicht in dem Objekte angetroffen wird, heißt ein Vermögen, nach Belieben zu thun oder zu lassen. Sofern es mit dem Bewusstsein des Vermögens seiner Handlung zur Hervorbringung des Objekts verbunden ist, heißt es Willkür» 2.
«Способность желать соответственно понятиям, когда само основание принятия решения о действии как таковое осуществляется само в себе, а не в объектах, и называется возможностью действовать или воздерживаться от действия по собственному усмотрению (букв.: „как любо“. — А. М.). Когда она связана с сознанием возможности действиями порождать объекты, тогда она называется Willkür» 3.
Итак, для того, чтобы действовать, желания должны сойтись с возможностями — кажется, что Кант в первой фразе высказывает моральную банальность, совершенно бытовой императив, вроде «соизмеряй свои желания со своими возможностями». Но дальше Кант становится совсем не банален, потому что говорит о том, что свободный выбор требует чувственной оценки своих действий, переживания не только их последствий, но и их текущих возможностей.
Нравственный субъект должен быть как романист, который размышляет, по какому пути пойдет герой по мере своего взросления. Тем самым, наделяя героя романа свободной волей, он делает сам роман механизмом утверждения свободной воли читателей: осознанной необходимостью, или, пользуясь названием одной из книг Андрея Зорина, необходимым условием «появления героя» 4.
Не был ли Геракл первым поэтом?

Уже в «Критике чистого разума» Кант подробно доказал, что хотя Willkür есть arbitrium sensitivum, чувственный выбор, он не выбор животных, потому что человек может противопоставить себя необходимости, может понять собственные чувственные порывы как принуждение и начать вести себя непринужденно. Опять позволим себе цитату:
Die menschliche Willkür ist zwar ein arbitrium sensitivum, aber nicht brutum, sondern liberum, weil Sinnlichkeit ihre Handlung nicht notwendig macht, sondern dem Menschen ein Vermögen beiwohnt, sich, unabhängig von der Nötigung durch sinnliche Antriebe, von selbst zu bestimmen 5.
Человеческий Willkür — это, конечно, arbitrium sensitivum (чувственный выбор), но не brutum (животный), а liberum (свободный), потому что чувственность не показывает его действие необходимым, и он присущ людям благодаря способности определять себя самостоятельно, независимо от принуждения чувственных порывов 6.
Пьер Осмо, современный французский антрополог и философ, комментируя эти рассуждения Канта, отмечает, что свободным выбором «оказывается свобода от Природы: в нем заявляет способность самоопределения, которая освобождает человека в его же чувственной природе от власти чувственности» 7. То есть в «Критике чистого разума» подразумевается не столько романное, сколько поэтическое настроение — ты понимаешь, совершая выбор, что он не был необходимым выбором, потому что можно было бы совершить и другой выбор. Но все выборы укоренены в самостоятельности определения себя, т. е. как раз внутри некоего целого, которое удерживает свою целостность независимо от соблазнов. Человек, говоря соблазну, что тот мешает его свободе, признает самостоятельность как свою собственную форму, тогда как свои поступки — как некоторые лирические решения, как некоторые образы, каждый из которых обладает лирической силой, но не обладает совершенной обязательностью.
Гегель отличается от Канта только тем, что видит такую самостоятельность лирика только в одном персонаже античной мифологии — Геракле. «Его свободная самостоятельная добродетель, побуждающая его частную волю восстать против несправедливости и бороться с чудовищами в образах людей и животных, не является всеобщим достоянием его времени, а принадлежит исключительно ему и составляет его характерную особенность». Здесь замечателен как бы плеоназм, «свободная самостоятельная», т. е. самостоятельность оказывается источником выбора, тогда как свобода — отличительным признаком самого Геракла, он оказывается лириком в жизни, каждый поступок которого и вдохновляет. Именно такой Геракл стал героем популярных мифологий, включая нормативный для советской высокой культуры труд Николая Альбертовича Куна, где Геракл — это борец за справедливость именно потому, что его очередной подвиг и есть единственная возможная реализация его природы, так что мы забываем, следя за подвигом, что ничтожный Эврисфей посылает его на подвиги.
Эврисфей — это как бы «замкнутое торговое государство», тогда как Геракл — та свобода, которая и есть свобода лирика, поэта, именно так, эффектно и блестяще на глазах у всех провернуть дело. Гегель так и пишет: «Правда, часть своих подвигов он совершает на службе и по приказанию Эврисфея; однако эта зависимость представляет собой лишь совершенно абстрактную связь, а не установленные законом и прочно укрепившиеся узы, которые лишили бы его силы в качестве самостоятельно действующей индивидуальности». Эти узы сделали бы его прозаиком, героем авантюрного романа, тогда как абстрактная связь между прозаическим заказом и поэтической вольностью — это как раз то, что и создает автономию лирики.
Революция свободного выбора

Гегель там же говорит, что Геракл не соответствует стандартам морального человека, вспоминая историю дочерей Феспия, но и стандартам аристократа, потому что занимался чисткой Авгиевых конюшен, не подобающей благородному человеку. Геракл не соответствует каким-либо прозаическим стандартам, и русский читатель сразу вспомнит Пушкина: «я, слава богу, мещанин», «шла баба через грязный двор», донжуанство и всё, что Гегель приписал Гераклу. Гегель и не устает говорить, что Геракл «выступает как образ совершенно самостоятельной силы, защищающей дело права и справедливости, для осуществления которого он по свободному выбору и собственной воле подвергает себя бесчисленным тяготам и трудам».
В отличие от суверенного человека по Канту, Геракл-суверен вовсе не есть моральный субъект Канта. Дело в том, что по Гегелю лирика «изображает преимущественно лишь внутренние душевные состояния и не нуждается поэтому в определенной наглядности внешней обстановки» 8, «меньше всего нуждается во внешнем» 9. Лирика — это механизм, ликвидирующий автономию внешнего, и в том числе внешнего суждения, она не встречает по одежке. Когда Мартин Хайдеггер в докладе «Гегель и греки» (1958) говорил, что для Гегеля метод — это самое «интимное» (innere), нечто влюбляющее в себя и влюбленное, он имел в виду тоже что-то похожее — что метод обходится без внешней обстановки, даже без каких-то принудительных интеллектуальных условий. Метод успевает влюбить в себя саму реальность, прежде чем она вспомнила о собственных предрассудках. И герой спасает эту реальность потому, что любые тяготы и труды переживает как часть внутренней жизни. Герой оказывается как бы революционером, который отвечает на тот манящий призыв любви, не ему принадлежащий, — любовь осуществляется в свободе реальности, а герой осуществляет свою свободу, утверждая выбор как лирический, как создание образов для любого возможного иного выбора. Герой оставляет следы только в виде образов.
Н. А. Кун прямо говорит, что Геракл — это лирик, тот, кто совершает множество действий, целительных или болезненных, но его природа не сводится к этим действиям. «Геракл (у римлян Геркулес) — величайший герой Греции. Первоначально он считался солнечным богом, разящим своими не знающими промаха стрелами всё темное и злое, богом, исцеляющим и посылающим болезни. Он имел много общего с богом Аполлоном. Но Геракл — бог и герой, встречающийся не только у греков; подобных героев-богов мы знаем много. Из них особенно интересен вавилонский Гильгамеш и финикийский Мелькарт, мифы о которых оказали влияние на мифы о Геракле; и эти герои ходили на край света, совершали великие подвиги и страдали, подобно Гераклу. Поэты всех времен постоянно пользовались мифами о Геракле; их внимание привлекали подвиги, и страдания, которые выпали на долю Геракла. В звездную ночь мы можем видеть Геракла (под его римским названием Геркулеса) на небе, так как его именем называется одно из созвездий, а рядом с созвездием Геркулеса мы видим созвездие Гидры, той чудовищной многоголовой гидры, которую убил Геракл» 10. Сама память о его подвигах обеспечивает такую синхронию, лирическое переживание единства, где в звездном небе поэзии Геракл и Гидра рядом как образы подвига. Подвиг — это не романная история, а реализация свободы через систему мест и образов. Свободный выбор — не необратимый выбор, а принятие лирического образа своего выбора, хотя выбор мог бы быть другим.
В советском гегельянстве это существенно, достаточно указать на Михаила Лифшица, который говорил, что материализм не противоречит «моральному превосходству» Октябрьской революции, и здесь он видит главное схождение идеализма Гегеля с практическим материализмом Ленина. «И при известных обстоятельствах целое или всеобщее может быть в одном месте, а фактическое и материальное, в более узком смысле, как простое количество, — в другом» («Дух и его действительность», 1974) 11. Лирика и создает эту систему мест, синхронию победы идеала Октября над Гидрой капитализма и над Эврисфеями соглашательства и оппортунизма. Это свободный выбор, который не может обойтись без лирических образов, но который при этом требует и подвига, и страдания, и, в конце концов, суверенного превосходства качественных решений над количественными.
Александр Марков, профессор РГГУ
Оксана Штайн, доцент УрФУ
1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Ч. 1. Идея прекрасного в искусстве, или идеал / пер. Б. Г. Столпнера, ред. М. Лифшица. — М.: Искусство, 1968. С. 194–195. Далее цитируется та же книга.
2 Kant I. Die Metaphysik der Sitten, AK, Bd. 6, S. 213.
3 Перевод А. Маркова.
4 Зорин А. Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. — М.: НЛО, 2024. Автор отмечает: «Я хотел бы также поблагодарить Льва Рубинштейна за разрешение воспользоваться заглавием одного из его текстов в качестве названия этой книги».
5 Kant I. Kritik der reinen Vernunft, B562.
6 Перевод А. Маркова.
7 Osmos Pierre. Willkür, Freie Willkür // Vocabulaire Européen des Philosophies — Dictionnaire des Intraduisibles. / ed. Barbara Cassin. P.: Seuil, 2004, P. 1411.
8 Гегель Г.-В.-Ф. Указ. соч. С. 264.
9 Там же. С. 286.
10 Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. Любое издание.
11 Лифшиц Мих. О Гегеле. — М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2012. С. 132.

 (14 оценок, среднее: 4,79 из 5)
(14 оценок, среднее: 4,79 из 5)