Грукабур и Ензидрин
— Хватит! Пора валить из Верхушки к жморам дрынёвым! — выпалил в пространство Зуар Грынь. В ответ вспыхнула искорками стайка люминеток, да прокатилось глухое эхо, отраженное от скал. — Жаль, конечно, что родитель* будет огорчен, он столько сил приложил, чтобы пристроить меня в эту элитную дыру. Собственно, Зуар Грынь и так был на грани исключения из Высшей школы философии. В настоящий момент он был отстранен от занятий за непочтение к наставнику. Недавно на семинаре зашла речь о крае мира. Наставник утверждал, что край — это место, где кончается твердь, — так сказано в Учении.
— А если поплыть от края вниз, можно будет подплыть под мир снизу? Или там будет стена, уходящая в бездну? — спросил Зуар Грынь.
— Об этом в Учении не сказано.
— Почему не сказано?! Ведь это самое важное! Что такое мир — диск, окруженный со всех сторон водой, или столб с плоской вершиной?
Концы четырех боковых рук наставника стали нервно сгибаться-разгибаться, но Зуар Грынь продолжал:
* Европиане — гермафродиты. При этом им свойственно весьма нетривиальное репродуктивное поведение со своеобразной романтичностью, которая, впрочем, недоступна восприятию человека и потому не освещается в данной хронике. По этой причине претензии по поводу сексизма автором не принимаются.
— А вообще, кто-нибудь видел этот край мира? Мы же со всех сторон окружены темными далями, которые еще никто не осмелился пересечь…
Доложили начальству школы. Зуар Грыню грозил вердикт «непочтение к Учению», за которым автоматически следовало немедленное исключение. Но Наставник сжалился и попросил перефомулировать вердикт на более мягкий, переведя непочтение на свой адрес. Исключение следовало лишь за двукратным «непочтением к наставнику». Да и жмор с ними, он и впредь не будет почтительно молчать на семинарах по Учению, пускай исключают, зато как хорошо на воле! Зуар Грынь направлялся в долину теплых струй — любимое место, где можно отвести душу. Разгоняешься, врезаешься в струю, бьющую из недр, распластываешь все руки, она подхватывает тебя и, болтая туда-сюда, забрасывает ввысь. Потом уходишь вбок в нисходящий поток, и так — пока есть силы.
Зуар Грынь прибавил ходу, испуская отрывистые локационные посвисты. Как же прекрасен мир! Многоголосый, звучный, откликающийся переливчатым эхом. Пологие холмы, колышущиеся леса длинноленточника, отвесные утесы, горы, долины, вулканы и струи. И всё кишит жизнью! Скалы слева отзываются бархатистым тоном — они покрыты двустворками, надо будет подкрепиться на обратном пути. Впереди высвистываются три ленивых круглобрюха, медленно плывущих наперерез. Скоро он увидит их бледно-розовые светящиеся плавники. Дальше — шестигранные столбы, потом наконец долина теплых струй. Еще дальше начинается подъем — склон Индаргрука. Туда лучше не соваться даже тогда, когда вулкан спит — отвратительно воняет и щиплет глаза. Вулкан надо огибать по большой дуге, но этого не стоит делать — там дальше живут беглые. Говорят, им лучше не попадаться. А еще дальше? Хребет, а за ним, по легендам, живут сизоголовые дикари. А дальше — темные дали; темные потому, что для них нет лоций, потому что там без лоций можно заблудиться и не вернуться. Но ведь протянут лоции в пределы темных далей когда-нибудь! Там наверняка окажется то же самое — горы, равнины. Что дальше? Не этот же дурацкий обрыв, из-за которого он отстранен от занятий! Там те же равнины и горы и так без конца. Тысячи поколений недостаточно, чтобы изучить те края, и всегда найдется место еще дальше — равнины, вулканы, живность, дикари. Бесконечность, чудесная и загадочная — хватит на всех! Бесконечный мир, который был и будет вечно. Дух захватывает!
Вот и круглобрюхи. Как плывут, красавы! Плавно колышут огромными светящимися крыльями, будто не перебираются с объеденного пастбища на свежее, а плывут из прошлой вечности в будущую вечность… Из левой бесконечности в правую бесконечность.
Разминувшись с огромными равнодушными круглобрюхами, Зуар Грынь услышал посвист и сразу узнал по нему друга Амбур Грага, которого уже выгнали из Вышки. Он плыл навстречу, видимо, с тех же теплых струй, и сильно спешил, судя по скорости перемещения.
— Привет, — просигналил Зуар Грынь.
Скоро они встретились.
— Поворачивай назад, там наползла вонь — вот-вот начнется.
Индаргрук просыпается.
— Жалко, так хотел покувыркаться! Теперь это надолго…
Друзья уныло неспеша отправились назад в город — на таком расстоянии от вулкана опасаться было уже нечего. Вскоре они услышали два громовых удара с раскатами.
— Грукабур разгневался, — заключил Амбур Граг, — подождем, послушаем, что ответит Ензидрин.
Гнев Грукабура, бога недр, и Ензидрина, бога небес, наводил священный ужас. Согласно Учению, гнев богов обрушивался на мир, когда народ погрязал в грехах. Все благочестивые жители, услышав гнев богов, были обязаны бросить все дела и молиться десять смен. Но Зуар Грым и Амбур Граг не были благочестивыми жителями. Поэтому им было не столько страшно, сколько любопытно, тем более, что они никогда не слышали раскатов гнева так близко. Поэтому друзья остановились и стали ждать. И Ензидрин наконец ответил — сверху пришли приглушенные, но объемные раскаты, причем двумя порциями.
— Ензидрин явно халтурит, — заключил Зуар Грым, — по-моему, он просто повторил реплику Грукабура. Мог бы что-то от себя добавить.
— Давай еще подождем, может, они продолжат…
И они продолжили! Грукабур выдал еще три удара — два почти подряд и третий с заметной задержкой.
— Давай засечем время. Считай стуки*. Один, два, три… На сто двадцатом стуке Ензидрин отозвался — сначала длинной серией раскатов, в которой угадывались две волны, потом с задержкой еще одной серией.
— Опять повторяется. Сто двадцать стуков плюс примерно десять до того, как начали считать. Если Ензидрин откликается сразу, то расстояние до него около ста свистов** в один конец.
— Слушай, а может быть, там и нет никакого Ензидрина?! Какой смысл ему повторять за Грукабуром эту грозную ахинею? Может быть, это просто эхо? Может быть, там наверху есть что-то твердое? О, опять! Считаем стуки…
— Сто тридцать пять. То же самое. Но если там что-то твердое, то почему эхо не дает нам его форму? Ведь если я сейчас свистну (что Амбур Граг тут же сделал), ты ощутишь форму скал, что по пути к струям.
— Да, ты прав. Ну а если там наверху что-то бесформенное?*** Ну никак это не похоже на перекличку богов. Может быть, и нет никакого Ензидрина? Да и Грукабура выдумали?
— Хорошо, что нас никто не слышит. Мы бы уже заработали по три непочтения на брата. Но слушай, если там нет никаких богов, если наверху просто существует что-то твердое, то откуда берется высотный ужас? Иначе кто-нибудь уже доплыл бы до этого твердого и рассказал об этом.
* Стук — единица времени европиан, близкая нашей секунде.
** 1 свист равен 1066 метрам. Название связано с пределом голосовой локации европиан.
*** На самом деле объемная картина от небесного эха не возникает потому, что оно растянуто во времени из-за больших масштабов отражателя. Мозг европиан, как и наш, не приспособлен к автоматической обработке медленного сигнала — если замедлить развертку изображения в старом телевизоре в десятки раз, мы перестанем видеть картинку.
Зуар Грынь хорошо знал, что такое высотный ужас. Однажды он попробовал подняться за тридевять свистов в мощной теплой струе. Он никогда не испытывал такого восторга, как в тот момент, когда струя подхватила его и, болтая из стороны в сторону, понесла вверх. Он расслабился, отдавшись турбулентному потоку, позволив ему трепать себя, как клок путобородника, — в этом было некое залихватское удовольствие, не омрачаемое мыслью о том, что придется возвращаться вниз. Но вскоре, когда поток поостыл, эта холодная мысль пришла-таки в голову, отчего Зуар Грыню стало немного не по себе. Он засвистел, что есть мочи, но пространство не отозвалось ни малейшим эхом: твердь осталась далеко в глубине. Зуар Грынь поплыл в сторону, рассчитывая вскоре выйти из восходящего потока и спокойно спуститься в нисходящем. Однако восходящий поток не кончался — он стал медленней, но, объединившись со многими теплыми струями, превратился в широкое вертикальное течение. Беспокойство переросло в страх. Зуар Грынь прибавил ходу, взяв немного книзу, но чувствовал, что его всё равно несет вверх. И тут пришел настоящий высотный ужас. По всему телу пошло покалывание. Зуар Грынь непроизвольно засвистел и затрещал что есть мочи. И эхо пришло, эхо из пустоты нарисовало гигантские щупальца, тянущиеся к нему сверху, потом щупальца исчезли и с небес повалились огромные глыбы, скалы. Он вытянулся стрелой и рванул вниз изо всех сил, которые внезапно удвоились.
Потом он долго отлеживался, восстанавливая силы, поедал донных моллюсков и дожидался, пока пройдет головная боль, прежде, чем вернуться домой.
Амбур Граг в свое время тоже испытал высотный ужас, но уже по своей воле — поднимаясь вверх в спокойной воде до предела, пока ужас не стал невыносимым.
— Думаю, — ответил Зуар Грынь, — в небесах есть нечто твердое и очень важное, что нам не положено видеть. Высотный ужас нужен для того, чтобы мы никогда не увидели ту твердь, иначе случится нечто плохое*.
Очевидно, что с такими мыслями Зуар Грынь как ученик Высшей школы философии был обречен. Тем более с его простодушием. Он просто спросил, почему задержка между раскатами гнева Грукабура и ответным громом Ензидрина всегда одинакова. Наставник, сам того не желая, налился багровым свечением и медленно процедил: «Пошел вон!»
* Высотный ужас — эволюционный ответ на гипертрофированное любопытство европиан. Многие из палеоевропиан погибли, будучи не в силах вернуться с большой высоты.
Зуар Грынь так и сделал. Плюнув на придворную карьеру, он пошел в подмастерья к своему родителю, меднику. Каждый раз, как только вулкан подавал признаки жизни, он бросал все дела и отправлялся поближе к нему, считал стуки до прихода эха и записывал результаты. Однако счет вносил свою ошибку — иногда получалось 132 стука, иногда 135, иногда 138. Тогда Зуар Грынь изобрел часы.
У него была привычка всё хватать, толкать, крутить. Родитель обычно подвешивал тяжелые круглые отливки* к потолку на проволоке. Зуар Грынь любил их подкручивать и долго смотреть, как они вращаются туда-сюда, постепенно тормозясь. Благодаря приобретенной привычке считать стуки, он довольно быстро обнаружил, что период кручения отливок не меняется даже тогда, когда они почти успокоились и поворачиваются совсем немного. Это было несложно проверить — Зуар Грынь взял две одинаковые заготовки на одинаковых подвесах, одну подкрутил сильно, другую — совсем чуть-чуть, а потом с удовольствием следил за их синхронным кручением. Достаточно было время от времени легонько подкручивать отливку, чтобы процесс продолжался сколь угодно долго.
* По поводу технологии литья у европиан см. главу «Часовщик и Кузнец».
Обстоятельный Зуар Грынь отрегулировал длину подвеса так, чтобы крутильный маятник считал именно стуки — те стуки, которые отмерял его мозг по ритму, переданному родителем в наследство. Осталось подождать, когда проснется вулкан. Чтобы зря не терять время, он сложил из камней на отроге вулкана небольшой наблюдательный пункт и перенес туда «часы», что оказалось хорошим физическим упражнением. Через пару сроков вулкан проснулся, время между приходом прямого звука от удара из жерла и началом раскатов сверху оказалось почти постоянным — 133 с половиной стука, если считать за стук период колебаний конкретного крутильного маятника, изготовленного Зуар Грынем. По иронии судьбы именно этот маятник с его периодом в будущем станет эталоном: до потомков дойдет документ с записью, что по данным первых измерений время задержки эха вулкана от неба равна 133,5 стука. Положение жерла вулкана не изменилось, положение «обсерватории» было зафиксировано в документе и подтверждено археологами. Так, по первому историческому документированному определению, откалибруют единицу времени, стук. Никаких астрономических явлений, задающих естественную шкалу времени, на Европе нет.
Судьба Наставника, выгнавшего Зуар Грыня вон, против всех ожиданий оказалась драматичной и яркой. Вопрос ученика засел у него в мозгу как заноза. Пока вулкан извергался и грохотал, он, услышав раскаты, против воли начинал считать стуки до ответного грома, и всегда получал примерно одно и то же. Картина мироздания в сознании Наставника начала рушиться. Самой страшной стала мысль о том, что Учение поддается проверке. И если начать всерьез проверять, ставить вопросы (о том же крае Мира, например) то можно найти ответы не в Учении, а в жизни. И они могут оказаться совсем другими! Тем и был страшен для Наставника тот самый вопрос про небесный гром.
Однажды Наставник почувствовал, что не может больше учить тому, во что сам перестал верить, и сбежал. Его видели вдали от города — там, куда Индаргрук дотянулся своими отрогами. Он поселился в гроте рядом с теплым ключом, среди кустов ароматного лапчатника. С Наставником подружилась пара диких улзеней, изнемогавших от любопытства, так что вряд ли он страдал от одиночества. Наверное, о чем-то думал всё это время. И явно что-то надумал, поскольку оборудовал письменный стол, найдя гладкий
камень, надрал кожицы пухловика и начал писать некий труд. Царапал иглой спинокола, чертил некие схемы с треугольниками, проявлял, натирая разрезанным плодом чернильника, обрезал листы. Труд назывался «Трактат о познаваемости мира».
Когда Наставник через четыре срока объявился в городе, он выглядел уверенным и веселым. Даже посвежевшим. Прибыв на Белую площадь, он провозгласил с высоты: «Привет благочестивому Агломагу!» — два десятка досужих горожан резко обернулись, двое узнали его и помахали руками. Затем Наставник сразу разыскал Зуар Грыня, косвенного виновника столь резкого перелома в своей судьбе.
— Ну как, держишь на меня зло?
— Да уж забыл давным-давно, к тому же всё, что ни делается, — всё к лучшему. А то учил бы сейчас юных олухов-аристократов всякой ерунде. А так, смотри, какой прибор сделал — время измеряет.
— Да… Не зря я считал тебя одним из лучших учеников. Ну ты уж прости меня за прошлое. Глуп я был, хотя и учил вас, юных олухов, как ты сам сказал. С тех пор я многое передумал… А сейчас я к тебе не просто так. У меня идея есть. Как раз тут твой прибор пригодится. Ты посчитал стуки между приходом звука от вулкана и от неба. Конечно, самое очевидное объяснение, что это не боги переговариваются, а эхо вулкана от чего-то там отражается, ты прав. Но тут можно возразить: а если там, на высоте ста свистов над Индаргруком, — дворец Ензидрина, который вторит Грукабуру, как только услышит его гром?
— Прямо как поприк?
— Допустим, как поприк. Суть не в этом. Надо отмести все возражения, так, чтобы у проповедников хобот морщило, когда они заикаются о перекличке богов. Есть хороший способ определить, от чего отражается эхо. На слух это понять сложно — раскаты идут как будто сразу с разных направлений — из широкого пятна, а не из точки. Допустим, эхо приходит только от какой-то точки над Индаргруком, неважно — Ензидрин там сидит, поприк, или нечто твердое отражает звук. Ты же был близко к вулкану, когда насчитал 133 стука. Кстати, на каком расстоянии от жерла?
— Свистов десять, наверно.
— Время на эти десять свистов надо прибавить к задержке. Понимаешь почему?
— Сам же сказал: лучший ученик. А теперь за идиота принимаешь?!
— Хорошо. Значит, путь звука от жерла до неба и назад до твоей обсерватории занимает 140 стуков, 70 — в один конец. Сто с лишним свистов до неба. Возьмем для простоты 100 свистов и 67 стуков. Теперь главное: если слушать издалека, задержка между прямым звуком и откликом будет меньше. Насколько меньше?
— Треугольники рисовать надо. Этому-то ты нас правильно учил. Как сейчас помню: а квадрат плюс бэ квадрат равняется цэ квадрат.
— Правильно. Допустим, мы в двухстах свистах от вулкана, а Ензидрин висит в ста свистах точно над ним. Грукабур грохнул, и его звук пошел напрямую к тебе вдоль тверди, а еще он пошел прямо вверх, через 67 стуков дошел до Ензидрина, тот тут же гаркнул, и его крик пошел к тебе по прямой. Считаем расстояния. Первый путь — двести свистов. Второй? Ну-ка, вспоминай!
— Чего тут вспоминать — сто плюс сто на корень из пяти — триста двадцать четыре получается. Разница — сто двадцать четыре
свиста.
рис 1 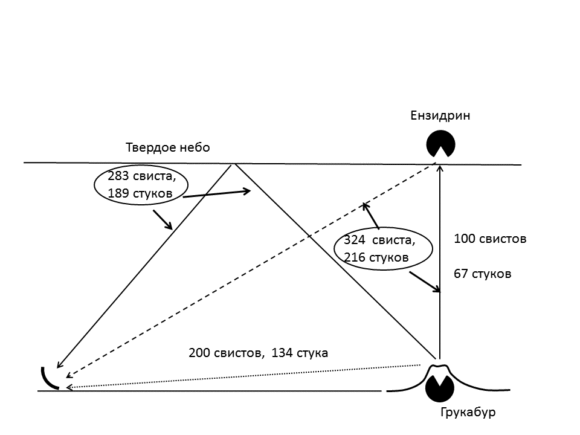
Схема эксперимента, предложенного наставником: как различить эхо вулкана от плоского твердого неба и эхо от объекта над вулканом
— Вот видишь, чему-то я вас полезному все-таки научил. Теперь допустим, что нет никаких грукабуров и ензидринов, а есть над нами и над вулканом необъятное плоское небо. И мы опять в двухстах свистах от вулкана. Вулкан грохнул. Когда придет отраженный звук от неба?
— Раньше всего придет тот звук, что отразится посередине. Берем равнобедренный треугольник, делим его на два одинаковых прямоугольных. Сумма их гипотенуз — 283 свиста, если правильно корень из двух извлек. Разница — 83 свиста.
— Правильно. Ты всегда был способным учеником. Как я переживал, когда тебя выгнал! Делим на скорость звука — мы ее знаем неточно, пусть будет полтора свиста на стук. В первом случае задержка 82 стука, во втором 55. Сможем мы отличить одно от другого?
— Еще как сможем, даже без моего маятника.
— Лучше с маятником. Важен обстоятельный результат, чтобы всё было точно записано, как измеряли, каким маятником, чтобы другие могли повторить и убедиться.
— А как отмерить двести свистов?
— По столбовому пути из Агломага в Ардадзыр. Там отмерен каждый свист. Дорога почти прямая: двести свистов от вулкана будет на сто семидесятом свисте дороги — чуть больше половины пути.
— Погоди, но Индаргрук не любит ждать. Допустим, мы отправимся в сторону Ардадзыра при первых ударах. Сто семьдесят свистов — это восемь, а то и все десять смен пути. А если он затихнет через три смены? Назад ползти, сморщив голову?
— Есть простое решение. Сейчас ты делаешь два одинаковых маятника, чтобы их периоды точно совпадали. Я отправляюсь с одним из них на сто семидесятый свист пути в Ардадзыр. Там поселяюсь. Мне не привыкать жить в уединении. Мне еще многое надо обдумать в тишине. Ты остаешься здесь в Агломаге. Как только вулкан просыпается — за три срока* он точно проснется, а скорее всего раньше, — ты берешь маятник и двигаешь в свой наблюдательный пункт у вулкана. Тут всего двадцать свистов — успеешь. При каждом ударе мы оба для полноты картины измеряем время от прямого звука до отраженных раскатов и записываем результат. После чего я возвращаюсь сюда, и мы объявляем миру о твердом небе, распростертом над нами.
— И нас объявляют еретиками и ссылают в темные дали.
— Ну, ты можешь помалкивать, я объявлю от своего имени. Мне звание еретика очень даже нравится — меня запомнят и оценят потомки. А темных далей я не боюсь: там мне точно никто не будет мешать. У тебя другая задача: сидеть тихо и переписать вот это. А если есть надежные друзья, дай им, пусть они перепишут себе по копии.
* Срок — 1,119 земного года (см. сводную таблицу единиц времени в главе «Пропасть»).
Всё примерно так и произошло, развернувшись следующей серией событий.
• Наставник поселился на сто семидесятом свисте пути в Ардадзыр.
• Через полтора срока вулкан начал извергаться.
• Наставник на сто семидесятом свисте измерил задержку эха для 11 ударов, все результаты легли в интервал 50–51 стук. Потом, пока извержение продолжалось, он поспешил к Агломагу и успел замерить задержки на сто двадцатом свисте и на семидесятом. Всё примерно сошлось с тем, что диктовала нехитрая геометрия. Интересно, что на сто семидесятом свисте дороги прямой звук оказался приглушенным и низким, а отраженные раскаты в сравнении с ним — четкими и сильными. К тому же эхо приходило на полтора-два стука раньше расчетного. Это объяснят лишь далекие потомки.
• Зуар Грынь измерил задержку для семи ударов своим маятником. Оказалось почти то же самое — 133–134 стука. Геометрия с твердым горизонтальным небом подтвердилась.
• Наставник описал результаты измерений в виде приложения к трактату и отправился по всем знакомым, знакомым знакомых и незнакомым горожанам, по торговым площадям и ярмаркам рассказывать о твердом небе и своих измерениях.
• На Наставника донесли, он был объявлен еретиком. Но сослан в темные дали не был, поскольку всегда появлялся неожиданно в непредсказуемом месте и вскоре исчезал неизвестно куда. Несмотря на то, что он успевал от души поговорить с горожанами, выследить и схватить его так и не смогли — пока кто-то донесет, пока прибудет отряд, его уж и след простыл в трехмерном пространстве.
• Зуар Грынь успешно запустил цепной процесс копирования трактата Наставника, который стал популярным. Его боялись показывать открыто кому ни попадя, но с удовольствием давали почитать надежным друзьям и тем более переписать по секрету.
• Потомки действительно запомнили и оценили Наставника, который вошел в историю под прозвищем «Ензивер», что значит «испытатель небес». Его портрет, не имеющий ни малейшего сходства с оригиналом, через двадцать колен был высечен на цоколе монумента героям-покорителям небес в Агломаге.
Проблески новой космологии
После открытия конечной толщины льда и шарообразности Мира космология европиан стала более самосогласованной. Всё очевидным образом решилось с силой тяготения: она универсальна, направлена к центру Мира, действует и на воду, и на лёд, держит Мир единым — скрепляет его от разлета в окружающую пустоту. А также создает огромное давление среды и выталкивающую силу, действующую в воде. Благодаря экспериментам в вакуумных камерах, теория тяготения европиан была доведена до состояния, тождественного нашей ньютоновской теории гравитации.
Вместе с тем стало ясно, что картина мира катастрофически неполна. Что там, в пустоте за ледяным панцирем? Если нет ничего и Мир является единственной сущностью, то почему он вращается? Ведь вращение говорит о какой-то вторичности, о том, что Мир не есть центр всего сущего?
Внешнее пространство стало тяжелейшей мировоззренческой проблемой, наплодившей множество фантазий. От бесконечной пустоты, окружающей единственный Мир, до множества вложенных друг в друга вращающихся сфер. От множества однотипных миров, свободно летающих в пространстве, до исполинского иерархического хоровода хороводов разнообразных тел. В то же время встал и другой вопрос: что поддерживает тепло недр? Если Мир вечен или существует очень долго, то его энергия должна была исчерпаться. Что пополняет запасы тепла?
Между тем былые достижения Цивилизации принесли урожай: изобилие пищи и бытовых благ. Поэтому общество не особенно терзалось загадкой внешней пустоты и источника энергии, предпочитая брать от жизни как можно больше, пока дают. Массовое образование в подобные эпохи во всех мирах одинаково выхолащивается и вырождается. В результате появляются поколения, в которых почти нет толковых работников. Но европиан пока что выручала спасительная инерция Цивилизации. Банкет всё еще продолжался.
Хруам Мзень в банкете не участвовал. У него были свои цели. В данный момент — закрутить в лёд неба якорь для уголкового отражателя. Якорь — труба с одним торцом, зазубренным, как пила, и с острой резьбой по внешней стороне. Его надо было ввинтить
в лёд не меньше, чем на полтора размаха, чтобы он заведомо не вытаял, пока идут наблюдения. Якорь шел тяжело. Хруам Мзень с Помощником впряглись в обвязки из строп, концы строп были привязаны к концам перекладины, приваренной к якорю. Оба синхронно разгонялись, насколько позволяли стропы, инерция их тел проворачивала якорь на четверть оборота. Несмотря на отличную физическую форму обоих, через два-три десятка рывков они уставали до изнеможения. Одна десятая нормального давления — это очень серьезно, несмотря на сильные медикаменты.
— Хватит, срочно в барокамеру! — скомандовал Хруам Мзень.
Задраив люк, они включили компрессор, и наступило блаженство.
— Уф-ф-ф, счастье начинается с половины нормального давления!
— Еще минимум два раза вылезать, пока закрутим якорь.
— И еще один, чтобы подвесить уголок, не забывай!
— Зато потом — вниз!
— Зато потом через четыре смены опять наверх с этими жморовыми фотоприемниками, — грустно сказал Помощник.
— Почему жморовыми?
— А ты инструкцию по технике безопасности при работе с вакуумными приборами читал? Вместо того, чтобы просто вставить их в гнезда, там на полторы смены манипуляций.
— А ты представляешь, что будет, если кокнем один из фотоумножителей?
— Ну да, сарсынь будет…
— Да не сарсынь, а полный охряст! Следующая экспедиция будет за нашими трупами. Уж лучше полторы смены проканителиться.
— А как ты думаешь, будет толк от всей это нашей акробатики? Не очень-то я верю, что небо колеблется. И в свет не верю.
— Ну что тебе сказать? Я доказать ничего не могу, поскольку не знаю, что там снаружи и есть ли там хоть что-то. Мое дело — попытаться найти, если есть, или, если не увидим, поставить ограничение: вблизи нас нет других миров, для которых соотношение массы к кубу расстояния больше такого-то*. Я надеюсь, что увидим.
— У тебя есть какие-то основания надеяться?
— Пожалуй, нет. Разве что очень смутные. Несправедливо было бы со стороны Природы создать наш мир совсем одиноким. Но это скорее из области религии, чем науки. Есть и более твердая опора для надежды: тепло недр. Одно из объяснений, почему оно не исчерпалось: наш Мир слегка корежится тяготением какого-то другого мира и тем самым греется. Слушай, а если ничего не найдем, ты решишь, что вся эта наша акробатика была напрасной?
— Нет, не решу. Если бы мы тут не возились с этим уголком и фотоприемниками, то всё время грызли бы сомнения: вдруг там что-то есть и мы могли это выяснить, но не сделали этого. Да и не так уж страшна эта акробатика, пока мы с тобой молоды и прытки.
— Ну что ж, раз не страшна, пора приступать — отдохнули. Осталось примерно тридцать оборотов — и якорь готов.
* Хруам Мзень с напарником собираются измерять приливы. Высота приливов пропорциональна массе тяготеющего тела, деленной на куб расстояния до него.
Во время сонного изобилия всегда остаются бодрствующие. Когда начались измерения, Хруам Мзень спал по четверть смены через одну. Он записывал результаты локации — расстояние до уголкового отражателя, снимаемого через каждые 64 стука, от руки
рисовал графики. Как он мог передоверить кому-то эти нехитрые операции?! Ведь то были первые данные! Он вглядывался в кривые, пытаясь выловить в них какую-то закономерность. Никакой закономерности не было. Кривая дрожала от точки к точке из-за
ошибок измерения и плавно колебалась вверх-вниз из-за конвективных течений. Постепенно он стал доверять дежурство своим сотрудникам и пытаться автоматизировать запись. Сначала удалось сделать самописец. Хруам Мзень растягивал несколько лент, выданных самописцем, в одну линию, и разглядывал их вдоль под малым углом, закрыв один глаз — не выявится ли глазом какая-нибудь периодичность. Но он понятия не имел, какой длины может быть этот период. Глаз оказался бесполезным. Помочь могла только вычислительная машина, которых было две — не в лаборатории, а в мире.
Чтобы воспользоваться вычислительной машиной, надо было сделать два дела: перенести данные на перфорированную ленту и написать программу гармонического разложения. Первую задачу решил лабораторный слесарь-виртуоз, сделав полуавтоматический перфоратор. Чтобы набить на ленте число, надо было набрать клавишами его двоичный код и нажать кнопку. Раздавался дробный удар и жужжание моторчика — машина была готова воспринять следующее число. Один сотрудник считывал число с графика или из журнала, диктовал второму, который набирал код. Какое счастье, что система счисления европиан была восьмеричной! Операция по набивке одного числа занимала в среднем девять стуков. Интервал между двумя измерениями был шестьдесят четыре стука, то есть набивка занимала одну седьмую времени набора данных, продолжающегося уже два срока. Многие десятки смен непрерывного тупого долбежа. Это была общая повинность для всех сотрудников лаборатории — работа долбодатом, как они называли это занятие. Скоро всей этой архаике придет конец. Скоро появятся автоматические перфораторы, и еще чуть позже исчезнет перфолента. Но данные не ждали!
Вторую задачу взял на себя Хруам Мзень и справился с ней за три смены. Он написал на нескольких листах программу из строк, выглядящих примерно следующим образом:
0110 1021 3047 4560,
означающую «сложить число из ячейки 1021 с числом из ячейки 3047, результат положить в ячейку 4560». Первые программы первых программистов любых миров выглядят примерно одинаково.
Пришел долгожданный момент, и Хруам Мзень с двумя коллегами направились в Вычислительный центр с рулонами перфоленты. Перфоленту с данными машина читала мучительно долго, то и дело запинаясь. Потом совместными усилиями отлаживали
программу по светящимся индикаторам с помощью тумблеров и кнопок. Наконец программа гармонического разложения заработала без сбоев. Ждать пришлось довольно долго, но в конце концов печатающее устройство заверещало и начало выводить ленту с ты-
сячами чисел, каждое из которых означало амплитуду гармоники данной частоты. Хруам Мзень жадно всматривался в цифры на бегущей ленте.
— Чего уставился? Сейчас вернемся, нарисуем. Так только глаза сломаешь, — сказал коллега.
— Да подожди ты, и так всё видно…
И вдруг Хруам Мзень вскричал: «Есть!» Он взвился к потолку, все удивленно уставились на него.
— Есть! Есть другой мир!
Он сделал круг по залу и снова взвился.
— Есть, такой славный и четкий! Мы с ним в приливном замыкании. Как я раньше не догадался проверить период вращения Мира! Небесное дыхание — четкий пик ровно на гироскопных сутках. Самое простое и самое ясное…
Прошли еще три срока. В небо в разных местах были закручены еще двенадцать якорей. Еще четырнадцать фотоприемников были вставлены в ледяные гнезда. Перфолента сменилась на магнитную ленту, у лаборатории появилась своя вычислительная машина, и однажды Хруам Мзень снова воскликнул:
— Есть! Есть свет извне!
Через некоторое время в средствах массовой информации пошли сообщения, что ученые что-то обнаружили — там, снаружи. Но из тех сообщений никто ничего не мог понять.
Однокашник Хруам Мзеня, Бреан Друм, работал ведущим научно-популярной передачи кабельного вещания, отличаясь от своих коллег настоящим научным прошлым, слывя по этой причине занудой-умником. Тем не менее, он имел свою прочную аудиторию, и на кабеле его терпели. Бреан Друм отправился к своему старому другу, с просьбой выступить в передаче. И услышал в ответ:
— Я!? По вашему кабелю?! Эх, если бы ты не был другом, сейчас бы летел отсюда впереди собственной трели! Я уже выступал у вас. Я рассказывал про Большой аттрактор, как он деформирует своим тяготением ледяную оболочку. При монтаже выкинули часть моих слов, вставили слова диктора, и получилось, что я говорю про Ужасного Каттракена, изготовившегося взломать ледяную оболочку, чтобы высосать всю воду Мира. Я потом потратил десять смен, чтобы связаться со всеми коллегами и друзьями, дабы уверить их,
что я в своем уме и не говорил всего этого бреда. А ты хочешь, чтобы я еще у вас выступал!
— Ну это была четвертая студия, известное дело. Меня бы спросил, прежде чем туда идти. Мне-то ты доверяешь?
— Тебе-то я доверяю, а ты доверяешь тем, кто будет монтировать твою передачу? Ты уверен, что они не вставят туда очередного каттракена ради обрамления рекламы каких-нибудь надглазных мерцалок?
— Меня обычно не трогают — аудитория специфическая, всякой дребедени не покупает, реклама неэффективна. Просто задвинули передачу в угол.
— Всё равно не пойду. Как вспомню, так скручивает…
— Хорошо, давай я сам постараюсь грамотно всё объяснить аудитории, но для этого я должен расспросить тебя. Могу не ссылаться.
— Давай. Только, действительно, лучше не ссылайся…
— Я краем уха слышал, что нашли какой-то Внешний источник света. Это правда?
— Правда. Именно Внешний источник с большой буквы. Он очень-очень слабый. Точнее, он весьма сильный, но сигнал от него слабый, поскольку толща льда неба поглощает почти всё. К небу прикрепили полтора десятка фотометрических станций, которые сбрасывают данные нам через тарелочные пищалки. Внизу эти данные записываются на ленту. Чувствительность у них порядка на два выше, чем у наших глаз, плюс способность накапливать сигнал за большое время. Долго никакого сигнала со станций не видели и уже подумывали прекратить затею. Да и сейчас, если взять данные с любой из станций — там ничего не видно. Так вот, новость заключается в том, что в результате совместной обработки данных со всех станций сигнал найден. Еще точнее, на гармоническом разложении темпов счета виден пик на периоде, близком к гироскопным суткам. Вероятность случайного возникновения такого пика — одна миллиардная. Кстати, сигнал удалось найти только благодаря недавно появившимся компьютерам: гармонический анализ такого объема данных — задача, которую в уме решить невозможно даже целой бригаде тренированных вычислителей.
— Это уже можно рассказывать по кабелю?
— Можно, это всё прозвучало на конференции и будет опубликовано со дня на день.
— Погоди, я регулярно сталкиваюсь с тем, что народ до сих пор не верит, что Мир вращается. Говорят: ну что нам ваши гироскопы, пусть себе вращаются, никто же не видел, как вращается Мир.
— Это, кстати, один из результатов вашего кабеля, я не имею в виду твою передачу. Наше поколение таким тупым еще не было. Дело в том, что почти любого можно сделать дураком благодаря привычке верить широковещательному слову. Некоторые сопротивляются, перестают верить, рвут кабель, но это меньшинство. На самом деле у тебя сейчас важная роль — поддерживать и образовывать это меньшинство. Вот ты для кого-то из них авторитет. Так и говори больше и доходчивей! Глядишь, сменится пара поколений — дураков меньше не станет, но невежество станет постыдным, и большинство начнет смеяться над теми, кто не верит, что Мир вращается. Однако продолжу. Я сказал, что Внешний источник дает гармонику, близкую по периоду, почти равную гироскопным суткам. Всё дело в этом «почти»! На самом деле за 1220 гироскопных суток Внешний источник отстает на один оборот.
— Ого-го! Это что же, он вращается вокруг нас, делая оборот за 1220 суток? Это должно быть очень далеко.
— Хуже того, он действительно, похоже, очень далеко, но это не он вокруг нас вращается, а мы вокруг него, причем вместе с Большим аттрактором.
— Да-а-а… Кстати, что нового известно про Большой аттрактор? Вроде понятно, что это другой мир, притягивающий наш, видимо, больше нашего, понятно, что наш Мир всегда повернут к нему одной стороной — он делает оборот вокруг своей оси как раз за время оборота вокруг аттрактора. Но все-таки, насколько он больше и как далеко находится?
— Это не так просто. Он может быть не очень большим и при этом близким — или очень большим и далеким — расстояние неизвестно. Сегодня это можно определить лишь одним способом. Кстати, ты знаешь, как обнаружили сам факт существования Большого аттрактора?
— По «дыханию неба» вроде. Недаром ваш проект так назвали…
— Ну да. Мы с помощью локационных отражателей выяснили, что небо вблизи экватора в первом квадранте в начале каждых суток чуть приподнимается, и то же самое происходит в третьем квадранте. Давай покажу. Предположим, моя голова направлена по оси мира. А свои руки я вытягиваю в плоскости экватора. — Хруам Мзень вытянул конечности, став похожим на восьмилучевую звезду. — Пусть я — Мир, а вон та стойка с приборами будет Аттрактором. Я двигаюсь вокруг него, оставаясь повернутым к нему одной стороной, — ученый непостижимым образом, чуть заметно шевеля руками, стал двигаться вокруг стойки, разворачиваясь так, чтобы всё время быть к ней лицом. — Аттрактор вытягивает меня по направлению к себе своей гравитацией, — Хруам Мзень сильней вытянул конечности направленные к стойке и от нее и чуть поджал боковые. — Но моя орбита не круговая. Вот здесь, со стороны красного щита я приближаюсь к Аттрактору и вытягиваюсь сильней… А с противоположной стороны удаляюсь и становлюсь более круглым, — ученый в движении осуществлял соответствующие трансформации, делая всё это непрерывно и плавно. — А если у меня на лице сидит наблюдатель и измеряет расстояние от себя до крайнего когтя на передней руке, он увидит периодическое изменение этого расстояния…
— Зачем ты мне этот цирковое преставление устраиваешь? Мне бы и пары слов хватило, чтобы понять. Но как тебе удается это шоу? Прямо настоящий балет! Я бы точно не смог.
— Показываю, чтобы похвастаться. Я ведь преподаю студентам, в том числе младших курсов. Им не то, что пары слов, а и целой лекции не хватит, чтобы понять. Такой студент нынче пошел. Вроде слушают, а глаза сонные и мутные — не понимают ни-че-го!
А устроишь такое представление — что-то щелкает у них в голове — просыпаются, глаза оживают, начинают понимать. А как только студент начинает хоть что-то соображать, хватаешь его за это «что-то» и вытягиваешь из состояния сонного отупения. У нас на сотню студентов получается всего два-три по-настоящему толковых выпускника, зато почти половина становится способна что-то самостоятельно выяснять и делать собственные суждения. По нынешним временам и это благо.
— И что будут делать эти двое-трое, когда они никому не нужны?
— Будут хранителями света. Будут копаться потихоньку в чем-то интересном, как это делаем мы. Зато когда наконец припрет по-настоящему, не надо будет восстанавливать науку совсем с нуля.
— Ваши «копания», видимо, аукнутся совсем не потихоньку. Уже пошли слухи, которые вызывают не только интерес, но и настороженность, вплоть до явной нервозности в высшем духовенстве… Кстати, насколько вытянута наша орбита?
— Как ни странно, пока не знаем. Проблема в чем? Надо измерить, насколько Мир вытянут в сторону Аттрактора. А мы не можем взглянуть на мир со стороны. И не можем промерить его изнутри с достаточной точностью. Скорее всего, вытянутость орбиты не больше пяти сотых.
— Я слышал, что, вроде, дыхание как раз и дает тот загадочный источник энергии недр, благодаря которому мы существуем.
— Конечно, это, похоже, и есть ответ. Недра, как и небо, тоже растягиваются и сжимаются, хоть и поменьше — вот тебе и трение, значит, есть и выделение тепла.
— Я тебя спросил было о массе Большого аттрактора — давай вернемся к этому.
— Чтобы знать массу Аттрактора, надо знать расстояние до него. Единственный способ понять, далеко он или близко, — измерить разницу в дыхании на противоположных полюсах. Если Аттрактор близко — на том полюсе, который обращен к нему, амплитуда дыхания будет заметно больше. Этого пока не видно — точности еще не хватает. Мы даже не знаем, с какой стороны Большой аттрактор — со стороны первого или третьего квадранта. Но из верхнего предела на разницу амплитуд вытекает нижний предел на массу Большого аттрактора — это пять тысяч масс нашего Мира.
— Слышал, что он большой, но пять тысяч! Наш Мир, получается,
всего лишь мокрый булыжник, покрытый ледяной скорлупой!
— Да, но зато на нем можно жить. А на Большом аттракторе — вряд ли. Правда, вокруг него могут летать и другие «мокрые булыжники»…
— Подожди, а их, других, можно как-нибудь почувствовать?
— С тем оборудованием, что мы имеем сейчас, нет. Но в принципе можно. Даже есть кое какие задумки по этому поводу, но оглашать их рано.
— Давай вернемся к Внешнему источнику, с которого начали. Это что-то еще более грандиозное?
— Судя по тому, что Внешний источник своим тяготением никак не сказывается на вращении нашего Мира вокруг Аттрактора, он очень, очень далеко. И при этом он очень ярок. Недавно измерили прозрачность льда. Оказывается, что если наши фотометры, хоть и на пределе, чувствуют внешний свет, то за толщей льда освещенность должна намного превосходить всё, что мы можем вообразить. Значит, у этого Источника просто какая-то непостижимая мощность. А значит, надо думать, и масса огромная. Потому я
и сказал, что это мы с Аттрактором вращаемся вокруг Источника, а не наоборот. Там могут быть и другие подобные аттракторы со своими мирами.
— Ты нарисовал совершенно грандиозную картину. Она сворачивает мозги набекрень даже мне, а что говорить о широких массах трудящихся? Кто в нее поверит, когда она основана на каких-то незначительных тонких эффектах? Фотометры что-то там на пределе чувствительности измерили… Еле заметное дыхание неба… При этом никто ничего не видит, ничего не может потрогать? Как поверить в то, что это не плод фантазии длинноголовых?
— Прежде всего мы сами, исследователи, должны себе верить. Мы сами чаще недостаточно полагаемся на свои выводы, чем слишком полагаемся на них. Так, один известный чудак потратил кучу времени на решение задачи о движении тел в центральном поле тяготения в гипотетической пустоте. Всякие эллипсы, параболы, гиперболы. Ему говорили: и где же движутся твои тела? В сопротивляющейся воде? В ледяном небе? Где твоя пустота? Да и сам он воспринимал свои занятия скорее как искусство. А оказалось, что сам Мир со своей ледяной скорлупой движется по его закону. Когда появляется ощущение, что все концы с концами начинают сходиться, что задача начинает сама тащить тебя вперед, — значит, ты прав и должен твердо стоять на своем.
— Я-то тебя прекрасно понимаю. А какой-нибудь фермер, услышав всё это, придет в ярость, назовет тебя жуликом, скажет, что этого не может быть никогда…
— А это не так плохо. Если фермер придет в ярость, значит, его интересует картина мира. Значит, у него в голове что-то происходит, вокруг этой темы что-то сложилось — своя система взглядов, смена которых, как известно, вызывает ломку. Гораздо хуже, если фермеру, если любому другому жителю будет абсолютно всё равно. Если он просто пропустит сообщение мимо ушей. Если картина мира нужна ему как девятая рука…
— Слушай, а нельзя ли пробурить этот проклятый панцирь и посмотреть, что за ним?
— Это было бы потрясающе. Но знаешь, где здесь основная западня, полная сарсынь, с позволения сказать? Температура льда. Лёд можно растопить или пробурить — в любом случае скважину заполнит вода. Но температура стенок скважины чем дальше, тем холодней; при приближении к поверхности лёд должен быть чудовищно холодным. Это значит, вода в скважине будет очень быстро замерзать, и, чтобы поддерживать ее жидкой, потребуется почти вся энергия электростанций Мира.
— Может быть, это стоит того, чтобы напрячься, новые электростанции построить наконец?
— Это древние деспотии могли напрячься и нагромоздить исполинский конус в честь деспота. А сейчас поди объясни тем же фермерам, что нужно чем-то поступиться ради дырки в никуда — именно так они воспримут эту идею. Эпоха не та — время великих экспедиций кончилось, настало время наслаждаться.
— Так что же — полная безнадежность? Обидно будет помереть, так и не узнав, что там снаружи! Наши предки жили, не зная, что это «снаружи» вообще существует — им было легче.
— Безнадежность не полная. Во-первых, мы уже почувствовали, что снаружи есть две вещи и скоро определим расстояние до одной из них. Во-вторых, время идет быстрее, чем раньше, эпоха не вечна — кое-кого из молодежи уже подташнивает от нее. Кому-то начинает хотеться чего-то настоящего… Разумная тварь должна принимать настоящие вызовы! Иначе какая же она разумная?! Иначе она быстро превратится в тупого кальмара. Глядишь, и прорвемся когда-нибудь.
Через две смены, после трансляции передачи Бреан Друма, в которой он добросовестно пересказал состоявшийся диалог, по каналу четвертой студии в новостях было сказано: «По мнению ученых, с каждым оборотом гироскопов к нам приближается Большой крактор, который уже поглотил более пяти тысяч миров, и теперь, как полагают некоторые комментаторы, наш на очереди. Кроме того, обнаружено, что существует огромный внешний источник,который через каждые 1220 оборотов гироскопов излучает на нас палящую вспышку. В связи с этим вице-трибун Верховного наказа заявил, что внесен законопроект о срочной остановке и запрете эксплуатации всех гироскопов».
Так европиане расплачивались за легкодоступные блага, добытые талантом и трудом предков. Что ж, это было время, которое надо перетерпеть. Терпеть оставалось 726 гироскопных суток.
Эпитафия
Дурдам Збинь запихнул пачку листов в емкость с растворителем.
— Опять рассуплянь медузья. Неужели я кончился, исписался?! Может быть, меня вышибла из колеи эта история с «первым взглядом»: слава, будь она даже короткой, неполезна нашему брату. Или, кто знает… Может быть, эта рассуплянь — суть самой эпохи, ее, с позволения сказать, дискурс. Да, похоже на то. Но неужели я столь зависим от духа времени? Почему так легко поддался ему? Может быть, дело в изнуряющей усыпляющей постепенности? Если бы какое-то время назад сказали, что скважины зарастают льдом, — я бы ведь взорвался! А так — сначала урезали финансирование, потом прекратили обслуживание главного дальнозора, потом отменили непрерывную вахту. И вот зарастает… Диффузия между водой и метаном, видите ли! И средств нет бороться с кристаллизацией. И воспринимаешь уже как нечто само собой разумеющееся. И погружаешься и погружаешься в это тупое равнодушие! Погружаешься вместе со всем миром с циничными шутками и ироничным брюзжанием. Еще немного — и тоже перестанешь понимать, зачем всё это было: скважина, станция, дальнозоры… Кому был нужен мой детский восторг при виде Внешнего Пространства? Так дойдешь до того, что и сам поверишь, что всё это было постановкой, видеомонтажем, розыгрышем. Что все эти снимки нарисованы… Вот эти миры — нарисованы?
Дурдам Збинь медленно поплыл вдоль стены, где висели керамические распечатки снимков Большого дальнозора.
— Вот они: Гандозир — расплывчатый серпик, горячий ад и адский холод. Второй, облачный Андозар, как говорят физики, пекло, хотя не понимаю, как они это выяснили, — какие-то волны когтевого диапазона… Третий, Анзилир… Бледно-голубое пятнышко, на
котором даже что-то можно различить. Еще одна ошибка природы. Есть открытая вода, есть атмосфера — и всё это отравлено кислородом, опалено жестким излучением. Интересно бы взглянуть хоть краем глаза — особенно на ту воду. А вдруг в ней кто-то живет, приспособившись к растворенному в ней яду? Там и температура такая же, как здесь, у нас. Вот о чем надо написать следующую книгу!
Нет. Пожалуй, это неинтересно. В такой идее нет вызова — ну, живут… Ну, как мы, ну, мир в четыре раза больше, ну, можно вынырнуть и повертеть головой в шлеме… Увидеть то же самое, что наконец увидели мы, только с меньшими усилиями. Очередное чтиво ко сну… Да, наверное, я действительно исписался…
Дурдам Збинь грустно повертел головой.
— Стоп! Там, кажется, есть твердая поверхность над водой! А если принять дикое допущение, что живое разумное существо может существовать на твердой поверхности вне воды?! Пусть меня разорвут на восемь частей! Вот идея, здесь столько драматизма! Разумные существа без защиты от палящих лучей и радиации, без поддержки выталкивающей силы при сильной гравитации, привязанные к двум измерениям, зато с рождения видящие это страшное и манящее пространство. Вот она, высокая коллизия! Пусть они будут лучше нас — мы возникли в уютной колыбельке, защищенной ледяным панцирем, в ласковой воде, а они без защиты, в тонкой ядовитой атмосфере, лицом к лицу с безжалостной бесконечной пустотой. Пусть они будут крепче и последовательнее нас. И никогда у них не будет такого наплыва агрессивного невежества, как ныне у нас, несмотря на эпоху развитой науки и технологии. Потому что они закалены, а мы изнежены.
Дурдам Збинь начал кружить по помещению — так лучше думается.
— А как они должны выглядеть? Им приходится противостоять большой силе тяжести без поддержки воды. Значит, они должны либо распластываться по поверхности, либо обладать мощными подпорками. Второе — правильно, потому что достойней держаться на конечностях-подпорках, чем ползать. Сколько подпорок? Надо побольше, чтобы лучше сохранять равновесие при сильной гравитации… Удобно будет передвигаться, переставляя их по очереди без потери устойчивости. А сверху — тело, накрывающее эти подпорки, как широкий купол. Получится нечто вроде коралловидного банзяна — весьма симпатично. А руки? Обязательно руки! Сколько? Все восемь? Лучше четыре. А вот глаз — обязательно два. Иначе читатель не сможет сопереживать герою. Может быть сколько угодно рук, любая форма тела, но глаз — обязательно два. Тогда читатель может мысленно влезть в его шкуру, а если четыре или пять — ну никак!
Дурдам Збинь закрыл глаза и помассировал их тыльной стороной передних рук.
— Ну что ж, вполне убедительный портрет. А как его зовут? На что похожа их речь? Мы испускаем звуки тремя способами: стук косточек, шершавый хитиновый смычок, автоколебания потока воды в изогнутой трубке. У них самым громким должно быть звучание потока атмосферного газа в трубе переменного диаметра. То есть они должны издавать гладкие протяжные звуки типа… — Дурдам Збинь напрягся. — Иауалл — вот, хорошее имя для главного героя. А первый эпизод… Сразу ошарашить фантастическим видом, вот так примерно: «Иауалл в лучах Органора, поднимающегося над горизонтом, стоял у границы суши и воды — огромного океана, откуда в глубокой древности вышли его предки. Зеркальная неподвижная поверхность воды отражала бесконечное черное пространство, усеянное далекими светилами*. Одним из них был манящий Дардонзар со стайкой невидимых ничтожных миров …». О чем думал герой, сообразим в процессе. Еще злодей нужен, иначе критики заклюют, и никакое издательство не возьмет. Не говоря уж о фильме.
* Естественно, Дурдам Збинь ничего не знал о рэлеевском рассеянии света.
Дурдам Збинь попытался вспомнить хоть одного настоящего злодея, который попался на его пути за всю долгую жизнь. Тщетно. Исторические злодеи, власть имущие и околовластные мерзавцы, злодеи из новостей — пожалуйста! А вот такого, чтобы с ним столкнула жизнь, — ни разу! Дураки — сколько угодно. Хамы — на каждом размахе. А злодеи — ну разве что совсем мелкие, не представляющие никакого драматургического интереса.
— Зачем я всю жизнь с таким упорством изобретал и расписывал этих дурацких злодеев? Ну да, без них нет интриги, значит, нет читателя, как гласят азы ремесла. Вот именно, что ремесла — ведь так и есть, я всю жизнь был ремесленником! А если бы послал к жморам ялдабродовым все эти азы и написал бы что-то настоящее? Ну, лишился бы широкой аудитории, зато уважал бы сам себя. Протагонисты, антагонисты, злодеи… К ялдабродам!Будто настоящее зло исходит от злодеев! Настоящее зло рождается из рассупляни в наших мозгах. Хватит, напишу, наконец, настоящую книгу, если успею. Не будет в ней никаких злодеев! А будет вот что.
Жители Анзилира освоят путешествия в пространстве и посетят наш мир. На пустынной ледяной поверхности Мира они найдут давно заброшенную станцию, дальнозоры, вмерзшие в лёд — очень давно вмерзшие. Анзилириане решат, что эти артефакты оставила
какая-то древняя экспедиция, прилетевшая издалека. Они станут искать другие артефакты и найдут остатки скважины. Скважина, скважина… Скорее всего, поначалу они должны решить, что экспедиция извне пробурила скважину, чтобы исследовать внутренность Мира. Как они поймут, что скважина пробурена снизу? О! Они найдут остатки самоходной барокамеры и станции — толстые стены, округлая форма — высокое давление изнутри.
Дурдам Збинь резко потряс всеми руками, чтобы снять перевозбуждение, затем подплыл к заветной нише и приложился к трубке с любимым напитком.
— Ладно, это мелочи. Экспедиция вернется на Анзилир, а следующая, лучше снаряженная экспедиция, где капитаном будет Иауалл, пробурит лёд снаружи и запустит в Мир исследовательских роботов, которые найдут следы нашего прошлого существования. Какие следы? Сначала — руины городов. А дальше? Есть у нас хоть какой-то способ хранения информации на тысячи колен, кроме монументальной архитектуры с резьбой по камню? То-то и оно… Значит, нужна встречная сюжетная линия: некто, пусть это будет группа волонтеров, наблюдая всеобщую деградацию, устраивает вечную библиотеку для далеких потомков в надежде на существование последних или инопланетян, если надежда не оправдается. История, наука, литература Мира, хроника распада и тлена — всё в библиотеке!
А на чем хранить всё это? Керамика? Диски из благородных металлов? Где хранить, чтобы уберечь от воров и разрушителей? Как где?! Поднебесье Медузы — что может быть надежней? Самая высокая точка! Решено: библиотека на недоступной высоте, отмеченная огромными уголковыми отражателями — ведь будут же у инопланетных роботов эхолокаторы. Но что жители Анзилира там прочтут? Почему мы вымерли? А почему мы вымрем? Вот главный вопрос!
Дурдам Збинь распластался по полу, пытаясь сосредоточиться. Любимый напиток тут уже не годился — он расслаблял. Это хорошо, когда не знаешь, куда двигаться — надо слегка вознестись. А тут требовалось пробить тупик.
— Идея! Причина должна быть сформулирована одной короткой фразой. Эпитафия! Пусть Анзилир входит в содружество цивилизаций, которые очень далеки друг от друга, но держат связь по радио. У содружества существует традиция: когда какая-нибудь экспедиция обнаруживает на некой планете погибшую цивилизацию, то планета получает статус мемориала. Там запрещается любая деятельность, кроме археологической, запрещается колонизация, на орбиту выводится мемориальный корабль-музей. Шлюз корабля украшается короткой надписью-эпитафией, в нескольких словах сообщающей о судьбе цивилизации. Например… например… Ну, скажем: «Они были талантливы и пассионарны, но не смогли поделить свой мир». Мало надписи… еще сканирующий небо радиолуч, передающий эпитафию в пространство — всем мирам и народам. Еще: «Они были умны и деятельны, но захотели взять у природы слишком много». Мемориалов получилось гораздо больше, чем живых цивилизаций… столь много, что, сочиняя эпитафию, трудно не повториться. Есть! Понятно, о чем будет думать Иауалл, стоя на берегу океана Анзилира. Он будет сочинять эпитафию по нам!
Дурдам Збинь удовлетворенно постучал задними руками по голове, что эквивалентно нашему радостному потиранию рук.
— Итак, Иауалл поведет третью, траурную экспедицию к нашему Миру. Мемориальный корабль, построенный на Анзилире, выйдет на орбиту, на нем будет размещена библиотека с Поднебесья Медузы, радиомаяк. Но текст эпитафии будет начертан не только на шлюзе корабля. Участники экспедиции напишут ее исполинскими символами на льду Внешней Поверхности. Так, а что они напишут? Что придумает Иауалл, стоя на берегу океана Анзилира? Что придумает?..
Дурдам Збинь включил четвертую симфонию Бахан Мцара, завис в центре комнаты и закрыл глаза. Хорошая музыка часто помогает найти правильные слова. Это было современное исполнение для октосистемы — на главную тему накладывалось эхо, рисующее объемный трансформирующийся мир.
— Сколько ни слушай, каждый раз пробирает. Даже сильней с каждым разом — всплывают новые интонации и картины. Вот ласковый маленький мирок. Грот, теплый ключ под скалой… Хочется расти. И мир растет. Скала растет, превращается в огромный пик. Его вершина исчезает в темной вышине. Появляются холмы, вырастают в горы, переносимся выше… Далекое небесное эхо. Простор… Это твой простор! Ты и сам растешь, ощущаешь восходящие и нисходящие потоки. Трогаешь одной рукой скалу, другой — поглаживаешь гору за долиной. Твой ласковый мир… Всё четче небесное эхо, небо превращается в потолок. Появляется легкий дискомфорт. Ты растешь, а потолок не поднимается. Мир становится тесен, эхо от потолка давит на голову. Надо пробить потолок! Не хватает пространства! Стоп!
Дурдам Збинь остановил запись.
— Вот оно! Дальше симфония разорвет потолок в клочья, но мы не обладаем мощью и духом этой музыки. У нас скважина зарастает льдом. Эпитафия будет звучать так: «Они были мирными и пытливыми, но задохнулись в своей скорлупе».
Дурдам Збинь успел написать свою последнюю книгу. Она, мягко говоря, не стала бестселлером. И всё же небольшой, зато устойчивый спрос на «Эпитафию» намного пережил автора. Пережил забвение Внешнего пространства, эпоху постфилософии, разгул сюррелятивизма и всю эпоху вялых колен (для нас будет правильней сказать «вялых веков»). И дотянул до появления волонтеров.

 (5 оценок, среднее: 4,20 из 5)
(5 оценок, среднее: 4,20 из 5)