
Между прочим, я родился в 1951 году в Москве, там и ходил в школу № 59 в Староконюшенном переулке. Мне неплохо жилось в городе, но счастье наступало летом. После стужи, темени, весеннего авитаминоза и школьной муштры — три месяца солнца и свободы. Нигде в мире нет таких длинных каникул, за которые преподанные тебе науки забываются столь прочно. Зато это время дарило ощущение такого огромного счастья, которого тоже нигде не сыскать. Для меня те летние месяцы представляются совершенно отдельными от другой жизни. Они лепятся друг к другу, плюсуясь в годы самородной радости, не подпорченной осенней слякотью и зимней темью.
В последние дни мая мы съезжали на дачу на три полных месяца, и я еще долго не знал, как дышится в городе летом. На даче темь наступала поздно, а слякоти и вовсе не было. Десять лет кряду мама снимала половину дома на 2-й Дачной улице, на самой окраине Истры. Итого: 30 месяцев, два с половиной года нескончаемого лета, сдиравшего с меня кожный покров: лупились нос и уши, сбивались коленки, обдирались локти. Местные жители, подобно тропическим аборигенам, никогда не носили шапок-ушанок и не надевали варежек.
На дачу собирались загодя и основательно, бабушка вязала тюки из простынь, набивала их мягким тряпьем. Сумки лопались от крупнозернистого сахарного песка для варки варенья; гречки, требующей перебора; муки грубого помола; драгоценных банок тушенки в остатках армейского машинного масла; шершавого коричневого мыла, глядя на которое ты боялся испачкаться. Провинциальное снабжение сильно уступало столичному — отправляясь в путешествие, следовало приготовиться к автаркии.
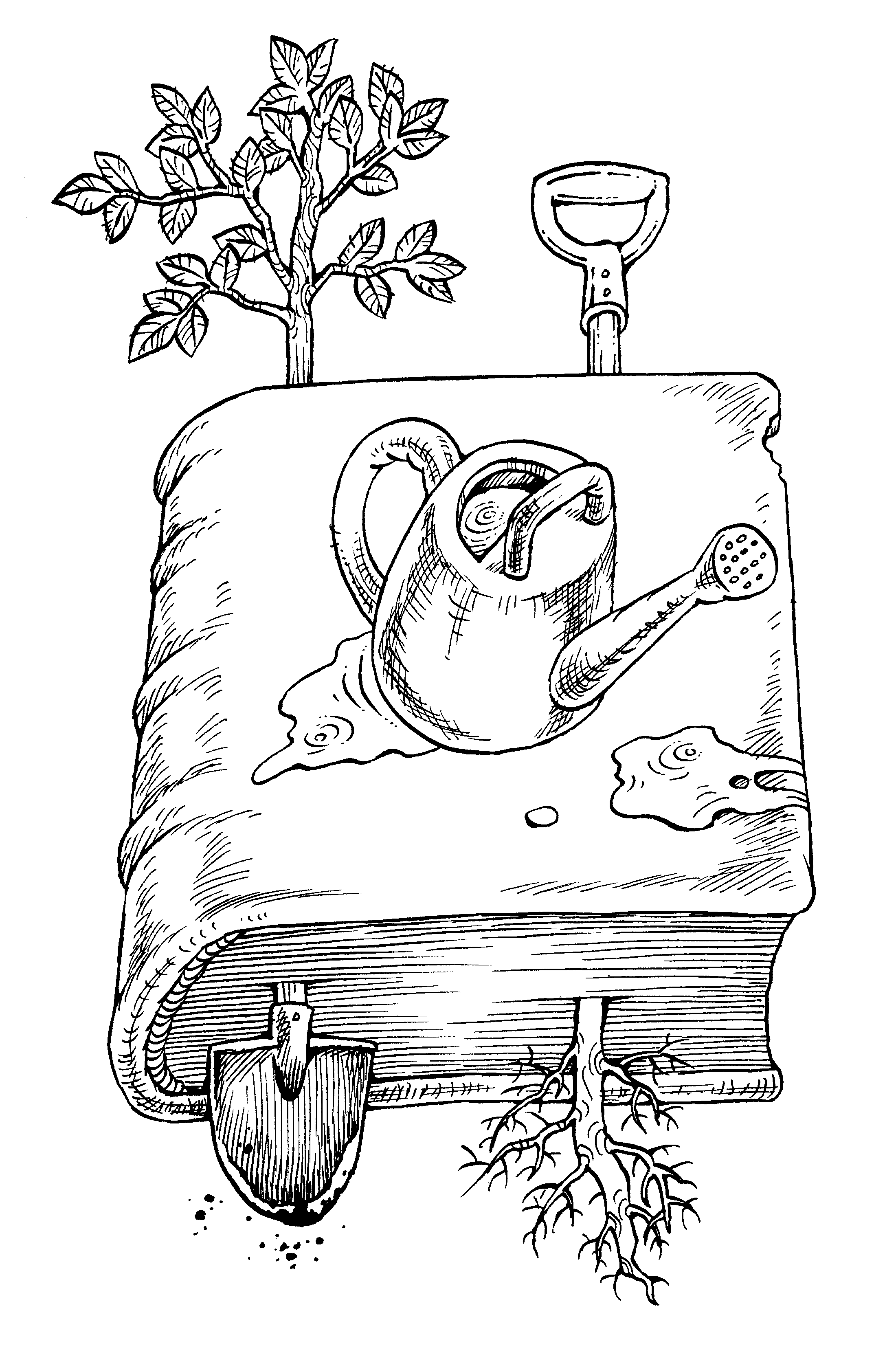
Что еще требуется дачнику? Таз для стирки, корыто для купания, подтекающий рукомойник, коричневый ночной горшок с отбитой эмалью, чадящая керосинка. И, конечно, самовар, вывезенный еще с маминой родины — города Михайлова, что под Рязанью. Самовар горел на солнце всеми своими вмятинами, его топили сухими шишками, которые я таскал из леса. Бабушка учила меня пить пропитанный дымом чай из расписанного красными цветочками блюдечка на весу — водрузив его на пять полусогнутых пальцев правой руки. Рука дрожала, блюдечко колебалось, жидкость волновалась, выходила из берегов, выплескивалась на клеенку, жарко капала на голые коленки. Я ставил блюдечко на плоскость, тянул губами расплавленную смолу.
Что там еще требуется дачнику? А хоть бы перина и шаткий венский стул. Хозяева — люди нежадные, они были бы и рады снабдить нас нужными вещами, но каждое важное жизненное приспособление имелось у них в единственном экземпляре. Как, впрочем, и у нас.
Для вывоза скарба требовался полноценный грузовик. После того, как дачные вещи были утрамбованы в кузове, взрослые сами забирались туда. Водитель дядя Федя с удовольствием и своеобразной галантностью подсаживал мягких женщин, я же вскарабкивался на пружинистое дерматиновое сиденье рядом с водителем, гладил захватанные рычажки. Потом выкручивал до нижнего упора ручку на дверце, стекло пряталось в мохнатую щель. Мчались с тугим ветерком, холодящим стриженую наголо летнюю голову, стрелка спидометра нервически дрожала возле 60. Мелькали придорожные избы, проплывали зеленеющие поля, испятнанные разномастными коровьими шкурами. Небо оставалось на месте и передвигало облака, играя само с собой нескончаемую партию по известным только ему правилам — партию, в которой у неба не было достойного партнера. Никогда больше езда на автомобиле не доставляла мне столько счастья.
А вот и Истра: площадь с крашенным серебрянкой лилипутистым Ильичём на абсурдно высоком постаменте — правая рука зацепилась за лацкан, левая — в глубоком брючном кармане. А вот и залитая по самые крыши сиренью улица Урицкого, облупленный кинотеатр с притаившимися в волшебной темноте фильмами и, наконец, 2-я Дачная улица, ответвление которой расплывалось в луг. В проулке было не развернуться, заезжали задом, грузный мотор рычал на колдобины, распугивая бабочек, кур и созывая босоногих друзей. На границе проулка с лугом мы и снимали половину оштукатуренного желтоватого дома — прогретое солнцем крылечко, застекленная разнокалиберными стеклами терраса, кухонька с чадящей керосинкой, две комнатки. Я спал в той, окно которой выходило в хозяйский цветник.
Роскошные пионы клонили тяжелые головы к сытной земле, свежим вечером сквозь раскрытые ставни благоухали почти невидимые матиолы, приторно тянуло жасмином. Владелица дома, тетя Аня, шустро дергала сорняки, задирался линялый халатик, обнажая складчатое мясо. Ее мать, Мария Трофимовна, сидела на скамеечке, ее сухонькая старость пахла смесью кислой овчины и сырой земли. Она доверительно рассказывала мне, как каждую ночь к ней является дева Мария, и мне становилось не по себе, хотя ее щеки, похожие на перепеченые яблочки, раздвигались в сладкой улыбке и не сулили худого. Она любила отчитывать покойников, носила черную кацавейку, из которой торчали сплющенные крестьянской работой пальцы с ороговевшими ногтями.
Спал я на скрипучей кровати с отвисшей металлической сеткой, на которую укладывалась увесистая перина, покорно принимавшая мое костистое тельце. За свою теплую покладистость она мне очень нравилась. Укрывшись с головой полушерстяным одеялом непонятного цвета и надышав нутряного тепла, ты обеспечивал себе легкое кислородное голодание, при котором завтрашний день казался особенно ярок. Проснувшись под солнечным лучиком, нацеленным в глаз, я поворачивался к коврику на стене и долго бродил взглядом по его запутанным узорам, пока не находил выход из лабиринта, который вел на луг.
По кочковатому лугу ранним росистым утром пастух, страшно щелкая длинным кнутом, прогонял стадо коров, мазавших траву увесистыми «лепешками». К одной из этих коров я бегал вечером с бидоном, на обратном пути отхлебывая через край пенившееся парное молоко. В поздневечерней полутьме на лугу фыркала стреноженная лошадь в серых яблоках, от которых клубился загадочный пар. Всё остальное время луг был нашим. Городки звонко разлетались по близкой вселенной, сшибленные сачком майские жуки недовольно шевелились в траве. Со всего маху я врезался в крепко сцепленные руки моих друзей и отскакивал в сырую траву. Эти цепи мне было не разорвать.
В футбол гоняли до полного изнеможения. Вот веду я прыгающий по кочкам мяч и уже предвкушаю пушечный удар по воротам из нестройных жердей, тут у меня выскакивает вбок правая коленная чашечка, но раж велик и, не останавливаясь, на полном прежнем ходу, легким ударом ладони я ставлю ее на место и продолжаю затейливый дриблинг до победного завершения атаки.
Доносившийся с четырех сторон света мощный гул «Спать!» изымал тебя с луга, немедленно прикладывал к подушке, душившей сердечный шум. Перо лезло в рот, но не мешало сну. Сон был крепок, ночного горшка не требовалось.
Играли на лугу и в «жопки». Это действо, видимо, требует пояснения — я не знаю ни одного человека, который бы про него слышал. Наверное, игра не получила широкого распространения из-за ее названия.
«Жопки» — игра луговая, она требует сухой погоды. Водящий стоит с мячом в руках, остальные сидят на траве, упираясь ладонями в землю за спиной и полузадрав ноги. Задача водящего: осалить мячом любую часть твоего тела — за исключением ступней и голеней, с помощью которых отбивается брошенный мяч. Особенно тщательно охраняется жопа — попадание в нее считалось гораздо более обидным, чем в голову. Что до мяча, то желательно отбить его подальше, да так, чтобы во́да не словил его на лету — иначе придется водить уже тебе. Если ты решил отодвинуться подальше от во́ды, то нужно делать это в бешеном темпе, толкая земной шар руками-ногами так, чтобы жопа упрыгивала назад. Отрывать задницу от земли насколько-то долго, то есть вульгарно драпать, правилами дозволялось, но если во́да успеет во время твоего бегства коснуться пальцами травы, то ты снова пропал. Игра вроде бы незатейливая, но эмоциональная. Впрочем, тогда любая игра сопровождалась такими эмоциями, которые недоступны взрослым.
Воздух над нашим зеленым лугом звенел от легковесных задорных криков, взрослая же футбольная забава на расположенном неподалеку настоящем стадионе, вытоптанном страшными шипованными бутсами, напоминала столкновение бессловесных быков с налитыми кровью глазами. Быки сопели и сочились возбуждающим остервенение по́том.
Наблюдая за их безрассудной битвой, недавно спешившиеся с танков покорители мира оттопыривали кадыки, забывали про увечья и со знанием дела применяли жизненный опыт к местным реалиям: «А вот немец за таким мячом ни за что не побежит, знает, подлец, что не догонит, немец — он аккуратный». В их словах слышалась безнадега и полное довольство своим национальным характером.
Все люди были великанами.
Они курили папиросы,
и облака подмышками клубились.
Раздевшись до трусов,
пинали шар земной. По швам
трещали границы Европы и Азии.
Клали кирпичи, плевали на ладони.
Мозоли никто не отпаривал. Ими
гордились. Охали. Пена падала с губ.
Сталин сдох. Развесив уши,
они молчали. Я рос под их матерок.
Они умерли, но победили.
Их эволюции были мне впрок.
Запасая терпение, сглатывал
ужас. Лягушку соломинкой надувал.
Грузовичок игрушечный катал
туда-сюда. Башня из кубиков сыпалась
на детский песок. Был великаном.
Мы жили небогато, но местные мальчишки жили еще хуже, многие из них обитали в длинном унылом бараке. Доски подгнили и разъезжались, обнажая сизые конкременты шлака. В промежутке между футболом и «жопками» мальчишки канючили: «Вынеси!» И я бежал домой, приподнимал тяжеленную крышку сундука с московскими припасами, неразборчиво хватал сушки-сухари-конфеты. Однажды левая рука не удержала крышку, она грохнула по фалангам правой, бабушке пришлось меня утешать и самой выносить припасы заждавшимся ребятам. Они были вечно голодными и отчаянными. Они не знали цены жизни — ни своей, ни твоей. Вдруг ни с того ни с сего они решили устроить дуэль на булыжниках. Рыжий Борька швырнул в меня увесистый камень. Как только он замахнулся, и камень еще не успел отделиться от ладони, я сразу понял, что пропал. Расстояние было изрядным, поленница полуприкрывала меня, и я мог бы попросту присесть, но я стоял, словно загипнотизированный, на месте, наблюдая неспешный вроде бы полет камня, который показался мне страшно долгим. Траекторию я угадал верно, камень действительно угодил мне в брызнувший кровью лоб. Тогда я понял, что это такое — Судьба.
Борьку жестоко отодрал отец, но это не испортило наших добрых отношений, я и дальше плавал вместе с ним на плоту по пруду, расположенному по дороге на речку. Отталкиваешься шестом от дна, поднимаешь муть, тревожишь белоснежные кувшинки, скользкая вода переливается через холодные ступни… Гибкой удочкой и широким бреднем Борька ловил в том пруду самородного карася. Есть ему хотелось всегда.
Сразу после переезда на дачу бабушка отправлялась на базар и покупала там живую курицу с тревожными и пустыми глазами. Бабушка выбирала курицу долго, щупала животы, пока не останавливалась на какой-нибудь не самой впечатляющей особи. «Вот это настоящая несушка!» — восклицала она, заранее гордясь своей прозорливостью. И, надо признать, все ее куры неслись отменно. Курица бродила по нашему проулку, клевала камушки, валялась в пыли, а бабушка кормила ее пшеном в обмен на теплые яйца, которые та оставляла в траве с победным квохтаньем. Тогда бабушка со всех ног спешила к ней, подбирала яйцо, разбивала ложкой тупую часть, подсаливала и давала мне выпить. Белок вытекал сам собой, желтку требовалось опрокидывание — точно так же взрослые дядьки опрокидывали рюмку с водкой. Как легко догадаться, навык в опрокидывании яйца пригодился мне во взрослой жизни. Я любил эти яйца, теплые как сама баба Аня.
Одна беда: в конце августа мы съезжали с дачи, курицу нужно было резать. В нашей семье за топор не брался никто. И тогда вызывали соседа — дядю Толю, обладателя единственного кирпичного дома в округе. Чем он зарабатывал на жизнь, я не знаю, его скошенный лоб походил на боксерский, а ладони были настолько огромными, что даже взрослые избегали здороваться с ним за руку. Возможно, он работал бульдозеристом, но я одновременно допускаю, что он был главным истринским дровосеком. Его дородная жена с удивительно белой жасминной кожей служила в «Сберкассе» и возвращалась домой с пухлыми сумками, как будто работала в столовой или магазине. Мне чудилось, что в сумках и авоськах она таскает деньги, но это была фантазия, развившаяся под влиянием беспорядочного чтения. Наверное, это была культурная инициатива жены — поставить в устланной коврами гостиной книжный шкаф с полной серией «Библиотеки приключений» из 20 томов — мечту любого мальчишки. Может быть, в своих необъятных сумках она таскала именно ее? Вряд ли дядя Толя пользовался «Библиотекой». Равно как и дочки Надя с Ларисой — близняшки, которые всё свое время проводили на качелях в саду. Их пухленькие ножки под методичный скрип качелей поддавали вверх счастливый воздух, который в ответ охотно пузырил их кукольные платьица. Хозяева «Библиотеки» не жадничали, и мне доставались не читанные никем экземпляры «Наследника из Калькутты», «Кортика», «Последнего из могикан» и т. д.
На предплечье у дяди Толи была наколота какая-то немыслимая дива, напоминавшая синюшную даму пик с аппетитно перекрещенными голыми ножками. Дядя Толя иногда играл с нами в футбол, финты были ему незнакомы, он носился исключительно по прямой, сносил попавшихся на пути пацанов и был похож на рассвирепевший паровоз. Дядя Толя не считался с нашим нежным возрастом, и если мяч после его ужасной силы удара «пыром» попадал в не успевшего увернуться вратаря, тот падал подкошенным, как мишень в тире. После дяди-Толиной биты городки с сухим деревянным звоном разлетались по сторонам света.
Призванный бабушкой на важное убийственное дело, дядя Толя с готовностью хватался за огромный блестящий топор, швырял курицу на колоду, одним коротким и страшным взмахом кончал дело. Так же ловко он рубил и дрова. Он всё делал ловко и безотказно. Возможно, что и палач из него вышел бы тоже неплохой. Голова курицы покорно застывала на колоде, хлестала алая кровь, мои глаза застилали слезы. Бабушкины, впрочем, тоже.
После того, как одна курица особенно полюбилась бабушке, она дала ей имя Клёпа — сокращенное от «Клеопатра». Ономастика бессильна перед выяснением скрытых причин такой удивительной номинации. В любом случае, птица с именем уже не годилась на бульон, и мы оставили ее хозяевам на зиму с просьбой не лишать жизни. В качестве вознаграждения бабушка купила им пшена на прокорм Клёпы. Хозяева сдержали слово, и на следующее лето мы застали Клёпу в добром здравии — она избегала наших глупых объятий, зато исправно кудахтала и неслась.
Александр Мещеряков

 (10 оценок, среднее: 4,90 из 5)
(10 оценок, среднее: 4,90 из 5)
Всё верно, только дача это бледное отражение жизни в деревне. Там ты один а вокруг деревенские. Вот где настоящая школа жизни, поскольку эти три месяца ты либо всё время ходишь на грани нарушения закона, вернее, чаще за гранью, либо сидишь дома. На деревенской улице ты либо с пацанами, либо тебя нет ))
.Дачи бывают в самых разных местах. Вот был дачный поселок в совершенно глухом месте, где можно было уйти в чащу непроходимого леса, полного бурелома, и целый день ходить там по старым заросшим тропам, протоптанным много лет назад неизвестно кем и ведущим неизвестно куда. И не вздумай сойти с тропы и углубиться в лес! Не вернешься назад на тропу. Она твой единственный путь домой на дачу.