
Пластика знатоков
Обычно, размышляя об античности, мы сразу попадаем в зависимость от некоторых ее текстов, их организации и полноты впечатлений. Мы могли не читать Фукидида на студенческой скамье или на досуге, но надгробная речь Перикла 431 года до н. э. вошла в культуру, определяя многие наши привычные представления. Слова, сказанные для определенной аудитории, будто бы обращены к нам всем — когда Перикл восхваляет изобретательность и скромность афинян, их доблесть и проницательность, их верность до смерти и честность с самими собой, мы воспринимаем этот гуманистический идеал, но сразу же торопимся представить определенную жизнь афинян и греков вообще.
Нарисованный воображением мир состоит из доблестных мужчин, посадивших женщин за прялку и обрекших их нуждам домашнего хозяйства. Сами мужи афинские тренируются, чтобы выигрывать войны, а на досуге предпочитают философствовать, просто чтобы заполнить время, дарованное им трудом рабов. Эти персонажи мечты также любят олимпийские состязания, чтут героев и сами хотят, чтобы их прославляли, воздвигая статуи. Статуи должны выглядеть как в наших музеях — гладкими, прозрачными, без знаков отличия, будто тени былых времен. Наконец, следует упомянуть щедрую природу, которая дает краски этому беломраморному миру, напитывает его соками жизни. Но сразу придется оговориться, что греки были стыдливыми, им, мол, было свойственно особое чувство меры, и что даже если они предавались излишествам, то, в отличие от римлян, в скорости ставили себя на место. Милое дело — обличить римлян, обвинив их в роскошных тратах, а потом еще и византийцев заклеймить за якобы утрату политической культуры.
Конечно, наука последних двух столетий немало делала, чтобы прорвать этот кокон образов, поневоле созданный конкретными жанрами. Если в античных биографиях было общее место — что герой, будучи поражен копьем в легкое или мечом в шею, успевает в пылу сражений произнести мотивирующую речь, обращенную ко всем товарищам, — хотя понятно, что он и физически этого не мог сделать, и его бы не услышали в разгаре боя, — то это воспроизводит последующая традиция: гоголевские запорожцы в «Тарасе Бульбе» тоже произносят речи, даже изрешеченные пулями. Здесь жанр биографии с его идеей завершенности и поучительности жизненного пути оказывается сильнее любого здравого смысла. Но Тонио Хёльшер (р. 1940), один из ведущих антиковедов наших дней, считает, что разбор этих риторических завалов еще далек от завершения.
Главная проблема, согласно Хёльшеру, — не воспроизводимые детскими книгами образы мускулистых и очень честных греков, при этом верящих в диковинные мифы. Проблема не в избытке, а в недостатке воображения любителей античности, принимающих в расчет только ближайшую ассоциацию: город — Акрополь, пластика — статуя, битва — доблесть. Хёльшер противопоставляет поспешным сопряжениям свою реконструкцию полиса. Он представляет греческую и во многом римскую цивилизацию не через символы агоры (площади собраний) или гимнасия (места для физических упражнений), а строго располагая все эти символы в системе концентрических кругов.
В центре находится сам город, полис, защищенный стеной. За ним располагается пригород, хора, избыток свободной земли, с объектами обычно в пешей дневной или даже полудневной доступности. Наконец, внешний круг — эсхатия, окраины, дикие места далеко от цивилизации. Связывает эти круги система святилищей и некрополей, которые и сохраняют единство гражданской общины во времени, единство мертвых, нынешних живых и будущих поколений. Мертвые усиленно присутствуют среди живых в виде подобий, портретов, памятных рассказов, которые сразу требуют подражания. Поэтому в своей итоговой книге «Мощь видимого» (Visual Power, 2018) и в предложенной сейчас русскому читателю книге Хёльшер трактует «мимесис» — подражание природе — совершенно практично: искусство сделать мертвых собеседниками живых и искусство сделать живых, подобных статуям, портретам, не столько созерцателями произведений искусства, сколько участниками произведений искусства и даже в чем-то произведениями искусства.
Так гражданская община становится полнее, и Хёльшер показывает в своих различных трудах, как этому способствует даже высота размещения изображения или степень его жизнеподобия. То, что мы обычно связываем с Римом, потому что больше знаем о римских портретах, римских погребениях, римских обожествлениях императоров, находится и в Древней Греции, только с поправкой на обычаи полиса, где все друг друга знают.
Высматривая тунца, а не зайца
Географическая концентрическая модель Хёльшера позволяет упорядочить разрозненные сведения. Мы знаем, что юноши тренировались в гимнасиях, а зрелые мужи участвовали в битвах. Но Хёльшер говорит, что гимнасий — это как раз часть «хоры», где не действовали вполне законы полиса, а можно было дать волю своей удали. Академия Платона и лицей Аристотеля — не с нуля созданные учебные заведения: просто философы пришли учить аристократических юношей в эти гимнасии, академию и лицей, где собиралась молодежь, готовившая себя к большим государственным свершениям.
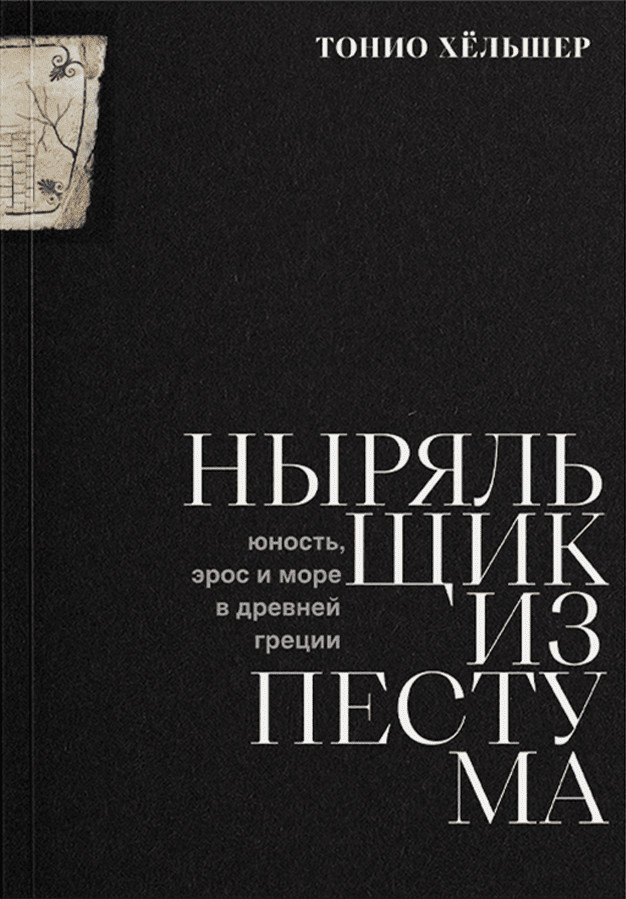
Наконец, законы полиса совсем не действовали на окраинах, это было место столкновения с диким миром, инициации. Опираясь на теорию «черного охотника» Пьера Видаля-Накэ, согласно которой универсальная инициация во взрослую жизнь — поход на охоту, где зверь может тебя задрать, но где ты сам применяешь бои без правил, Хёльшер трактует и произведения искусства античности с изображением эфебов, прекрасных юношей. Хотя дружба успешных людей с эфебами и была страстной, она совсем не мешала семейному и многодетному счастью всех участников этой дружбы — это просто была адаптация прежней мрачной инициации к аристократическим вкусам, когда взрослый человек заводит себе только что прошедшего испытания «оруженосца», если говорить более поздними терминами. Только последний носит не оружие, а саму красоту юности, которая всех вдохновляет в том числе на ратные подвиги.
Предмет единственной переведенной на русский язык книги Хёльшера, оригинал которой вышел в 2021 году, — открытое в 1968 году изображение ныряльщика в гробнице из Пестума (город в Великой Греции, как назывались греческие города на юге Италии). В этой же гробнице изображен симпосий, дружеский пир, и сам порядок изображений заставлял подозревать наличие здесь мистериального смысла. Например, не означает ли ныряние погружение в смерть, а пир — приобщение к сонму богов.

Хёльшер решительно отвергает такие расшифровки: даже если покойный участвовал в мистериях, дух античной живописи требовал не отвлеченного символизма, а усиленного присутствия жизни. Нужно было радовать покойника картинами удачного быта, потому что и он радует нас своим присутствием в портретах. Можно сопоставить такую гробницу с каким-нибудь нашим надгробием бизнесмена 1990-х, где он изображен с ключами от «мерседеса», — с тем различием, что античная гробница была запечатана.
Хёльшер делает существенный вывод: античное искусство предназначалось не столько для зрителя в нашем понимании, когда все произведения опускаются на уровень взгляда, ставятся в музее перед посетителями, сколько для других зрителей с разными уровнями взгляда — богов; самого покойного; самой изображенной жизни. В каком-то смысле изображенные на фресках пирующие должны интенсивнее разглядывать друг друга, чем это делаем мы, разглядывая их, — по-настоящему философски отнесясь друг к другу.
Так что же делает ныряльщик? Хёльшер вспоминает крутую скалу на острове Тасос, служившую естественной вышкой для прыжков — ее склоны покрыты надписями в честь прекрасных юношей, осмелившихся прыгнуть. Все эти надписи относятся к IV веку до н. э., они были подкрашены и видны с моря. А это значит, что «черные охотники» вполне могли становиться прекрасными ныряльщиками — тогда они были видны зрителям, в отличие от юных тел, отправившихся в густой лес добывать зайцев и оленят в подарок покровителям. Получается, что ныряние — это и есть бой без правил в «эсхатии»: чем скала и море меньшая окраина, чем лес?

Как говорит Хёльшер, тогда охота проникает в тебя, ты сам становишься желанной добычей. «Прыжок с вышки в море — кульминационный пункт основополагающего жизненного периода: долгого перехода из детства в статус взрослого. Краткий миг прыжка концентрированно воплощает весь процесс. Всё горячечное волнение, характерное для юности, содержится в этом мгновении, и многим оно знакомо по собственному опыту на трамплине: подниматься на вышку, в одиночестве, без защиты и поддержки; стоять одному на неизвестной высоте, откуда нет обратного пути; взглянуть вниз, может быть, испытать легкое головокружение. Наконец решиться, набрать воздуха и прыгнуть. Бесконечный миг падения, полет, погружение. Мысли остановлены, лишь тело всеми порами ощущает воздух, потом воду, отнимающую дыхание, зрение, слух… И, наконец, вынырнуть, отряхнуть воду, протереть глаза. Выбраться на сушу, снова оказаться среди людей. Это квинтэссенция восприятия жизни в юности: воля и нерешительность, восторг и ужас, и зачастую всё одновременно» (с. 47). Так ты сам становишься и искусством для себя, и памятником, и вдохновенной поэмой для этого памятника.
Чистое женское искусство
Хёльшер — великий знаток материальной культуры античности. Так, он определяет и то, какая вышка изображена на фреске — это башня для высматривания тунца, «туноскопий». Но не менее существенно в его труде переопределение античного реализма.
Мы привыкли к тому, что реализм обращен сразу ко всем, к некоторому усредненному пониманию окружающего мира и социальных отношений. Хёльшер различает как бы реализм-1, изображающий сцену как она есть, и реализм-2, изображающий кого-то одного в сцене, какой-то отдельный предмет или лицо. Реализм-1 требует жизнеподобия и почти театральных эффектов, он действительно должен угодить многим зрителям. Но реализм-2 угождает самому изображаемому, он концентрируется на его жизненном мире, на приятных ему ощущениях; и если на фреске с ныряльщиком изображены условные два дерева, а не перспективный пейзаж, — то потому, что эти деревья увидел сам изображенный перед храбрым прыжком. Если Виктор Пелевин пошутил про мастеров постмодерна, что они якобы умеют сделать «куклу куклы», то как раз античный художник может сделать мир для глаз куклы, и такой, чтобы радости куклы всегда оставались с ней, и кукла бы ожила истинным человеком в этих своих впервые явленных впечатлениях.
Но книга Хёльшера была бы не настолько убедительной, если бы в ней не появились женщины, купальщицы. Хёльшер говорит, что да, замужним женщинам приходилось смиряться и быть у очага, но пространственное концентрическое деление полиса было сильнее любых хозяйственных задач. Девушки участвовали в соревнованиях, посвященных Гере, — своих олимпийских играх, — были отличными ныряльщицами, и вообще, если их приходилось «укрощать» и «обуздывать», то это значит лишь, что они становились неукрощенными и необузданными, как только оказывались на окраинах. Только для них это была не инициация, а необходимая подготовка к самой жизни — кто скажет, что в ней сила совсем не понадобится? Если можно говорить о «чистом искусстве» в античности, то именно о женском искусстве спортивной смелости, которое может и не пригодиться на практике, но которое интересно как культивация силы и отваги по всем правилам, как поэзия жизни.
Осуждение неумеренности в удовольствиях, в знаниях, в труде — вовсе не какое-то врожденное греческое чувство меры. Скорее это результат столкновения с неумеренностью как незавершенной инициацией, когда человек приобрел спортивные или интеллектуальные навыки, но не стал поэтом своего тела, не стяжал настоящей статуарной доблести. Борьба с неумеренностью — необходимая часть создания доблестного полиса, в его узких границах, самого малого круга, где в театре и в повседневной жизни на улицах все видят друг друга и самих себя. Это и есть чистое искусство, уже не только женское, но и полисное — может быть, битва нас не ждет, но беречь свою доблесть надо, как берегут самый неприкосновенный запас.
Александр Марков, профессор РГГУ


